1936-1943 г.г.
Я родился в Иркутске (52° 16' широты и 104° 24' долготы) в феврале 1936 года, в день, когда состоялись выборы в Верховный Совет СССР, который в декабре того же года принял Конституцию СССР. Ровно за 99 лет до моего рождения в этот февральский день умер Александр Сергеевич Пушкин. Моей малой родиной и ареалом детства была вся огромная территория Иркутского военного авиационно-технического училища - ИВАТУ.
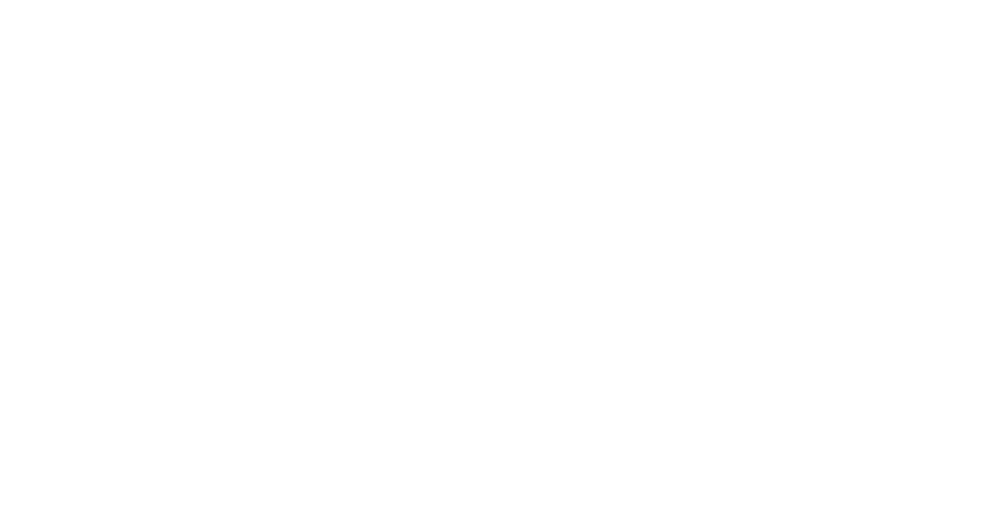
Вместе с отцом и мамой обитал я в комнате коммунальной квартиры на втором этаже типового кирпичного дома в жилом городке ИВАТУ (тогда – «18 корпус»), располагавшегося параллельно 1-ой Советской улице. Обстановка в нашей комнате была самая непрезентабельная, видимо, стандартная для того времени: кровать, стол, шкаф, стулья, моя детская кроватка… Могу напутать, но, кажется, в комнате была печка, для обогрева зимой. Окно на¬шей комнаты выходило на 1-ую Советскую улицу, и почему то мне врезалось в память, что, когда я оставался надолго дома один, то взбирался на подоконник и отслеживал проезд грузовых автомобилей по дороге, протянувшейся перед окном (грузовики проезжали не часто, а легковушки по этой дороге тогда не ездили).
На первом этаже в нашем подъезде были ясли (для детей до 3 лет), так что на весь свой рабочий день родители отводили меня этажом ниже. Перед нашим подъездом была устроена детская прогулочная площадка для самых маленьких: песочница и немного свободного места для самых бойких. Вся площадка перед домом была огорожена и густо засажена кустарниками и молоды-ми деревцами. Отец участвовал в посадке этих деревьев и при каждой прогулке рассказывал мне почти о каждом деревце: это сосна, это берёзка, это боярка, это пихта и так далее. Картинка этой площадки перед домом – одна из ярких «картинок» в моей памяти, к тому же иногда я смотрю на фотографию: молоденькая сосенка и я, трехлетний мальчик – одного с ней роста.
Из других ярких картинок ясельного возраста – заснеженная горка, спускавшаяся к ипподрому. В воскресные дни зимой она бывала вся усыпана катящимися вниз на лыжах или санках (чаще) и поднимавшимися наверх детьми. У меня тогда лыж не было, скатывался с горки я на санках. В будние дни горка была пуста, т.к. дети были при деле: в яслях или детском саду.
Летом иногда отец водил меня гулять в берёзовый парк, но о нем я расскажу чуть позже. Из других событий ясельной поры упомяну только два. Оба практически никак не отложились в моей памяти.
Первое событие – поездка с отцом к его родственникам в Саранск. У меня сохранилось документальное свидетельство этой поездки – несколько моих фотографий в компании с другими детьми. Кто они – какие-то родственники или просто соседские ребята –, я не знаю. Никаких картинок в моей памяти об этой поезде в Саранск у меня не осталось.
Второе событие – моя долгая инфекционная болезнь. Как мне рассказывала мама, я пролежал в инфекционном отделении детской больницы немалый срок (отсчитывался месяцами). Последствия этой болезни сказались на мне в дальнейшем: у меня были проблемы с желудком, всю жизнь я оставался достаточно тощим (мама считала меня почти «худосочным», старалась, чтобы я пополнел).
По достижении трёх лет все дети из яслей были переведены в детский сад ИВАТУ (почему-то все называли его – «очаг»). Очаг располагался на «закрытой» территории училища, в одном из автономных крыльев огромного каре главного корпуса. Все комнаты очаговских групп (младшего, среднего и старшего возраста) располагались на втором этаже, там же располагались кухня, столовая, комната для музыкальных занятий. Навсегда остался в памяти широкий, длинный и высокий коридор, который был для нас, детей всех групп, ещё одним очень важным местом общения. В коридоре можно было побегать, потолкаться, здесь же была общая вешалка для детских пальто и шубёнок и, соответственно, скамейки, где можно было снять и одеть обувь. Насколько мне запомнилось, дети даже младшей группы были достаточно самостоятельны, сами раздевались и одевались, застёгивались и управлялись с обувкой.
Чтобы попасть на территорию, отгороженную от 1-ой Советской улицы длиннющим высоким забором, нужно было пройти через проходную. Затем нужно было пройти по дороге до здания клуба, миновать огромные навалы угля, предназначенные для котельной главного здания, пройти мимо входа в мед¬санчасть и до¬браться до последнего входа в крайнем крыле, т.е. пересечь почти всю территорию училища: от центральной проходной до въездных ворот на учебный аэродром. Весь этот путь ярко запечатлился в моей памяти, его я проделывал почти ежедневно до 1948 года с перерывами на два, а потом еще на один год. Первый год в очаг и из очага меня водил отец, а затем (особенно в теплый период, когда день удлинялся и вечером светило солнце) бывало, что ватагой друзей, живших за проходной, мы домой уходили самостоятельно.
У очага были две очень большие собственные площадки для прогулок, граничившие с территорией аэродрома: одна для старших групп, другая для младших. Особого оборудования на площадках не было, кроме навесов от дождя. Основным занятием детей во время прогулок была беготня, а также всевозможные вариации «войнушек». Одной из разновидностей было бросание кам¬ней – довольно серьёзное противостояние. «Камни» добывались здесь же, путем разбивания массивных кусков гранита о массивную металлическую бал¬ку на более мелкие. Однажды такой острый гранитный камень прилетел мне прямо в лоб, до крови рассек кожу и, возможно, как-то повредил лобную часть черепа. С той поры на всю жизнь у меня в середине лба осталась отметина: плоская хрящеобразная припухлость, еле заметный бугорок.
Конечно, кроме прогулок были и предусмотренные занятия (чтение и письмо), подготовка инсценировок с костюмами и чтением четверостиший к праздникам: к 23 февраля, к 7 ноября, к 1 мая.
Насчёт письма не помню, но читать в детском саду я научился. Понятно, что для коллективного чтения были запрограммированы русские народные сказки, Пушкин, Л.Н. Толстой, Маршак, Чуковский, Михалков и далее по всем известному списку. Меня тогда сильно взволновал древнегреческий миф о Медузе Горгоне (ужасный взгляд которой всё живое превращал в камень). Я до сих пор помню иллюстрацию в книжке, на которой был изображен герой Персей, защитившийся щитом, на зеркальной поверхности которого было изображение страшной головы, у которой в волосах извивались мерзкие змеи.
В очаге в группе, где был я, собрались и мои приятели знакомые из соседних кирпичных корпусов, располагавшихся в строгую военную шеренгу, которая разместилась параллельно 1-й Советской улице, рядом с парком и вне закрытой территории училища. Затем мы вместе пошли в одну школу, учились в одном классе, практически до моего отъезда из Иркутска. Самым близким моим другом той поры был Вася Васильев. Он был повыше меня ростом, физически выглядел покрепче, да и фактически был явно посильнее, чем я. В неизбежных конфликтах между детьми по какому-либо поводу или «просто так» он всегда был моей неизменной поддержкой и опорой. Моим другом он оставался и в школьные годы, до его уезда из Иркутска после 4-го класса.
Летом 1941 года мама отвезла меня в Тайшет, к своей сестре Елене. Насколько я правильно уловил в те годы отдельные намеки мамы и её сестры Елены, в глухих сёлах именно Тайшетского района они затаились после своего бегства с берегов родного Хопра.
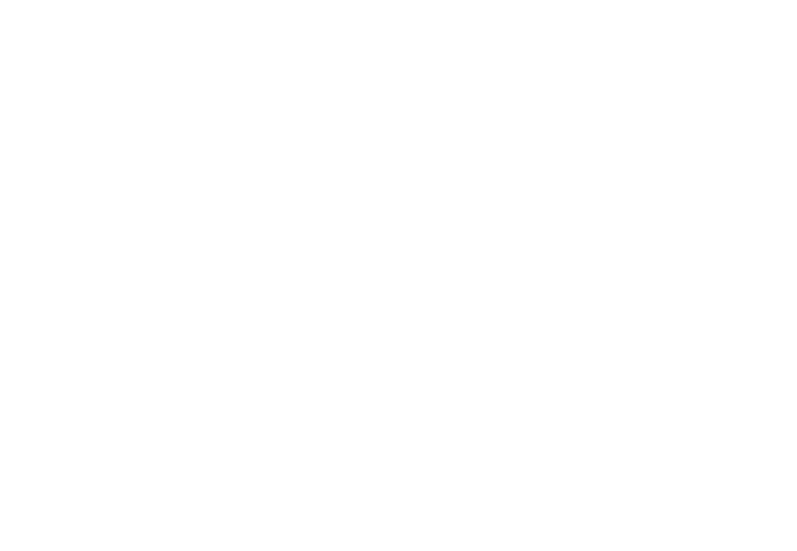
Жили они в самом центре Тайшета, в доме № 124 по улице Ленина. Это был обычный бревенчатый дом, разделенный на две половины. Каждая из них имела свой своё крыльцо и свой вход с улицы: ворота (с калиткой) в свой двор. При доме был небольшой земельный участок с грядками: морковка, свекла, горох, огурцы, помидоры, репа, капуста и другие огородные культуры. Картошка выращивалась на отдельном большом участке, располагавшемся наряду с другими участками рядом, во внутренней середине большого квартала, которая была свободна от построек. В глубине двора размещался большой сарай, где хранился огородный и хозяйственный инвентарь, дрова, а по соседству с ними обитали козы (две или одна) и куры.
В Тайшете и в расположенном недалеко от него селе Бирюса я оставался до сентября 1943 года, когда я поступил в школу.
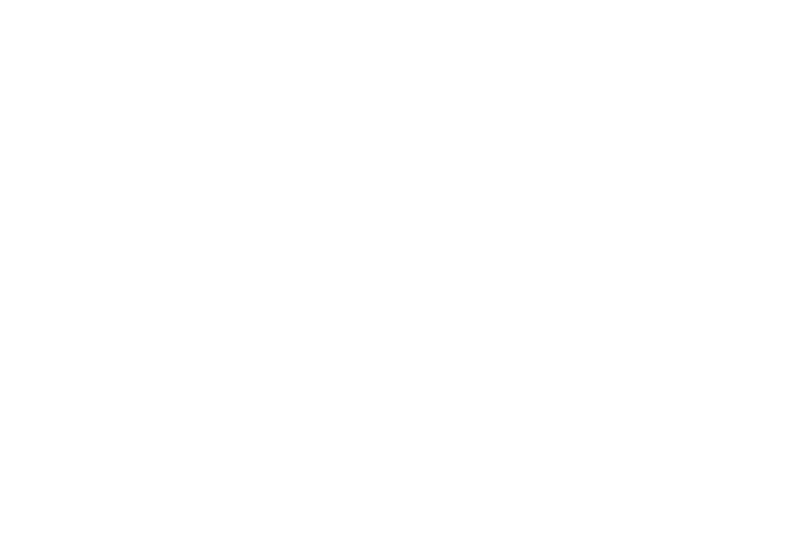
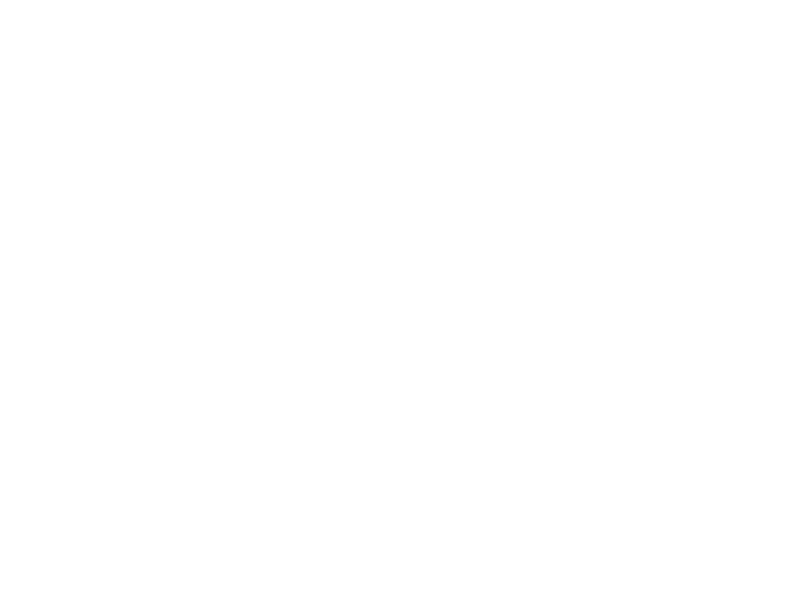
Никаких фруктов или садовых ягод, никаких конфет или других сладостей в эти два года в Тайшете ни на базаре, ни в магазинах не было. Никаких.
«Хозяйство» тети Лены, как и в других окрестных дворах, было чисто натуральным, в доме не было ни электричества, ни радио. Утром для приготовления еды затапливалась плита на кухне, которая служила и для отопления. В очень сильные морозы зимой изба подтапливалась комнатной печкой.
С наступлением сумерек все окна (как и во всех окрестных домах) наглухо закрывались ставнями с железными засовами, а в избе зажигалась керосиновая лампа. Никаких фонарей на улице не было, даже та малолюдная жизнь на улицах Тайшета того времени с наступлением темноты, особенно в длинные, зимние ночи, полностью прекращалась. Ужин был недолгим, и спать все укладывались рано. Но и утром вставали тоже рано – каждый день всегда была работа.
Ближайшими моими приятелями были дети, жившие в соседнем достаточно большом доме (барачного типа). Этот дом стоял на углу пересечения улицы Ленина с Советской улицей. Сейчас на месте этого дома стоит здание аптеки (№ 124). Практически всё свое свободное время я проводил в незамысловатых играх или хозяйственных «работах» в большом дворе этого дома совместно с многочисленными его обитателями младшего возраста. Лишь к концу моей жизни в Тайшете, в последнем году перед поступлением в школу я осмеливался самостоятельно бродить по ближайшим окрестностям вокруг дома, но все это было практически в пределах не далее одного километра от ворот.
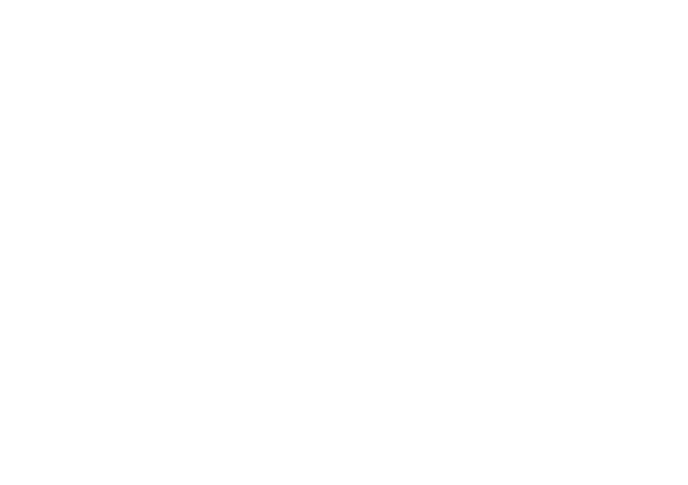
Почти напротив углового барака в небольшом, узком и продолговатом скверике вдоль Советской улицы стояло здание бывшей церкви. В то время в этом здании был кинотеатр, возможно, тогда – единственный в Тайшете. Кинофильмы там демонстрировались только в субботу и воскресенье. Один из дневных сеансов был «детским». Однако мне было так мало лет, что пройти даже на детский сеанс мне не удавалось – «мал ещё в кино ходить».
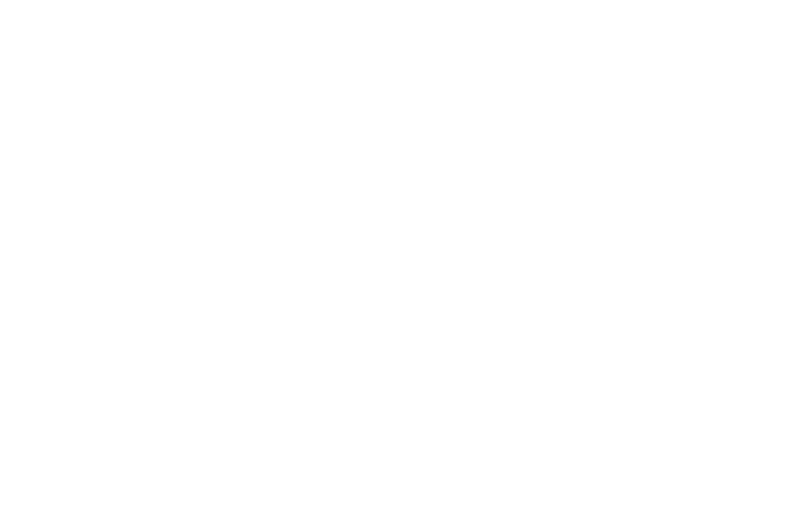
В это же время в доме подрастала еще одна личность, хотя и совсем маленькая, но уже с командирскими задатками – моя двоюродная сестра Лиля.
В полтора-два года она самостоятельно ходила, забиралась во все закоулки дома и чувствовала себя «хозяйкой» в своем дворе и в огороде. Естественно, что между нами возникали «конфликты местного значения». Чтобы при¬влечь внимание к какому-то недоразумению, Лиля использовала безотказное средство: принималась громко реветь. В этих конфликтах взрослые разобраться даже не пытались. Для её мамы всегда виноват был я («ты же намного старше!»), для её отца всегда был прав я («она же ещё глупая»). Да и во многих упрёках тети Лены в мой адрес Степашкин всегда был моим адвокатом: «Ну что ты требуешь от такого послушного и невредного ребенка?»
Думаю, что в эти два года тетя Лена спасла меня, если не от хронического недоедания всех необходимых в детстве продуктов, то от голода – точно.
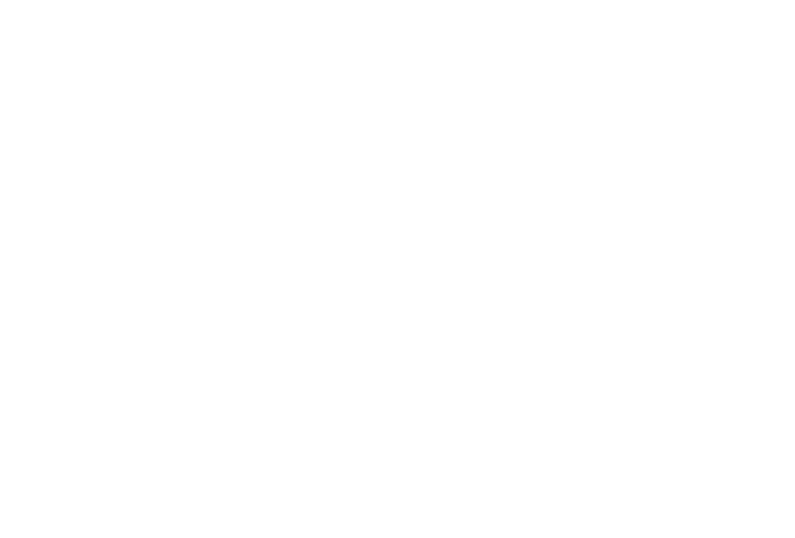
После ареста своего мужа Антонина Александровна с сыном сбежали в Сибирь к тете Лене, в глухой Тайшетский район. Приехав в село Бирюса, тетя Тоня работала преподавателем-воспитателем в Бирюсинском детдоме.
Этот детдом по существу был «детской колонией» или, как стали говорить, «детской зоной». В нем содержались дети родителей, умерших в тайшетских лагерях, а также потерявшие родителей в депортации из западных регионов СССР (Прибалтика, присоединенные области Украины и Белоруссии).
Тетя Тоня работала в детдоме сутками, так что её сын самостоятельно управлялся по хозяйству. Мой двоюродный брат Лев в первые годы войны (1941-43 г.г.) учился в 3-4 классах, ему было 9-11 лет
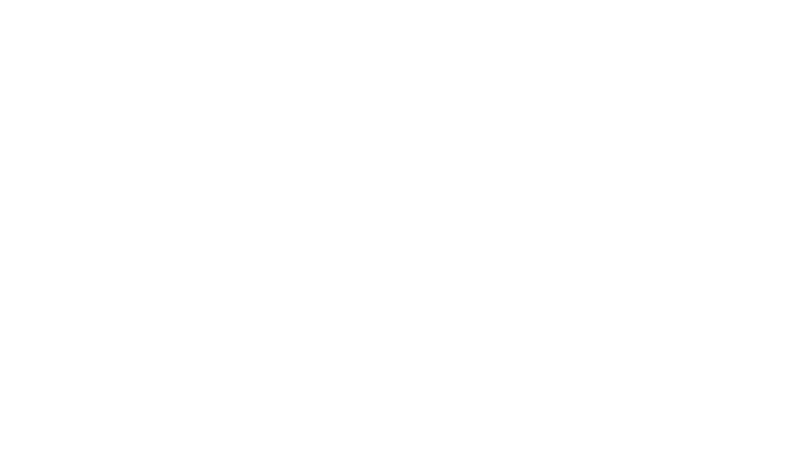
Сам путь до Бирюсы в первый раз показался мне бесконечно длинным (конечно, нужно принять во внимание, что мне тогда было пять лет). Это было ясным солнечным днем, мы шли в полном одиночестве, лишь один или два раза нам навстречу проехали телеги – их везли лошади. После выхода из Тайшета и до самой Бирюсы нам не встретилась ни одна постройка: ни жилой дом, ни даже сарай. Вдоль дороги стеной стоял лес, настоящая сибирская многовековая тайга, гнетущая, затененная густотой хвойных иголок мощь которой вызывала у меня оторопь, даже невольный трепет, который, естественно, показать моему поводырю никак не хотелось. Правда, в некоторых местах тайга была светлая от красно-золотистых стволов устремившихся вертикально вверх корабельных сосен, которые стояли вплотную друг к другу. Но большее впечатление (даже некоторую опаску) производили еловые участки. Мрачные, темно-зеленые, высоченные ели вызывали ощущение таинственной, волшебной обители сказочных героев, включая волков, медведей других недружелюбных персонажей. Естественно, что идти быстро и без остановок мне было невмоготу, и Лев, который уже ходил в школу, был вынужден соглашаться на две или три краткие остановки. Подбирал он довольно широкие полянки, где, не обращая никакого внимания на мое хныкание, собирал ягоду: костянику или очень мелкую землянику. Когда в конце нашего перехода он, наконец, произнес сакраментальное: «Пришли» –, я был в полном недоумении. Но он свернул с дороги направо, на неприметную боковую дорожку, пройдя по которой несколько десятков метров, мы оказались на высоком берегу реки, излучина которой была прямо под нами. Спустившись вниз по тропинке к берегу, мы вышли к парому, который в летнее время был единственным средством сообщения деревни с внешним миром.