имени Н. Е. Жуковского
1953-1959 г.г.
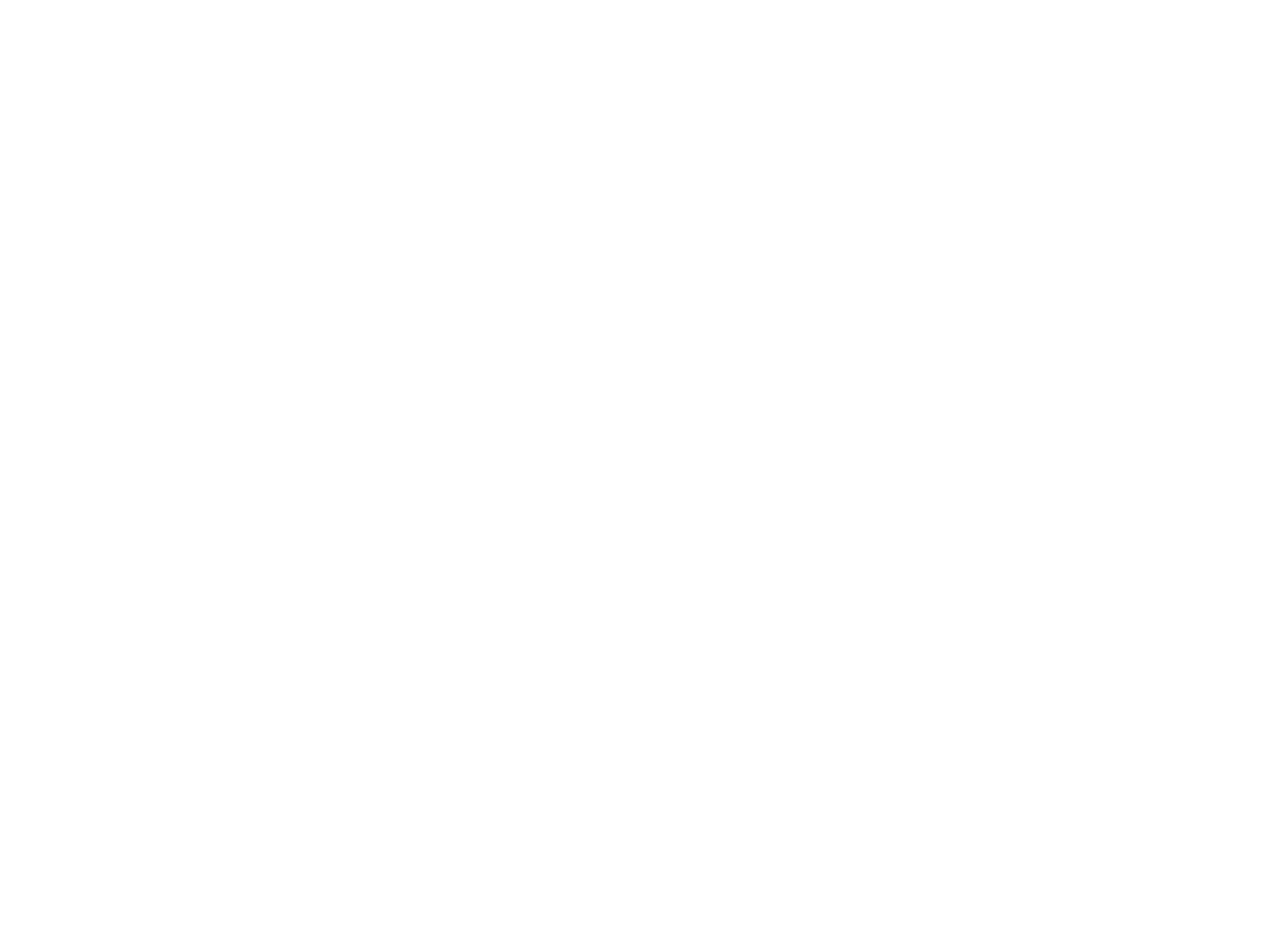
После сдачи половины вступительных экзаменов наш куратор проинформировал меня о том, что на 4 факультете все вакансии практически заполнены (у московских генералов, полковников и их знакомых есть свои дети) и посоветовал "идти" только "в электрики" – это именно то, что "надо". Я до сих пор не знаю, что он имел в виду под тетразвуком: "надо". Нет слов, как я ему благодарен за его бескорыстный совет.
Поскольку в академию я прибыл из Саратова в составе "команды призывников" из 5 человек, то самый первый момент прибытия в академию не помню. В первый день меня потрясло то, что я буду спать в комнате, окна которой выходят прямо на восточные трибуны стадиона "Динамо". Только фанат ЦДКА, Динамо или Спартака из самой глухой провинции мог понять мои чувства. За месяц сдачи вступительных экзаменов я чуть‑чуть пообтерся, разобрался в топографии ближайших окрестностей и, конечно, (конечно!) побывал на "Динамо".
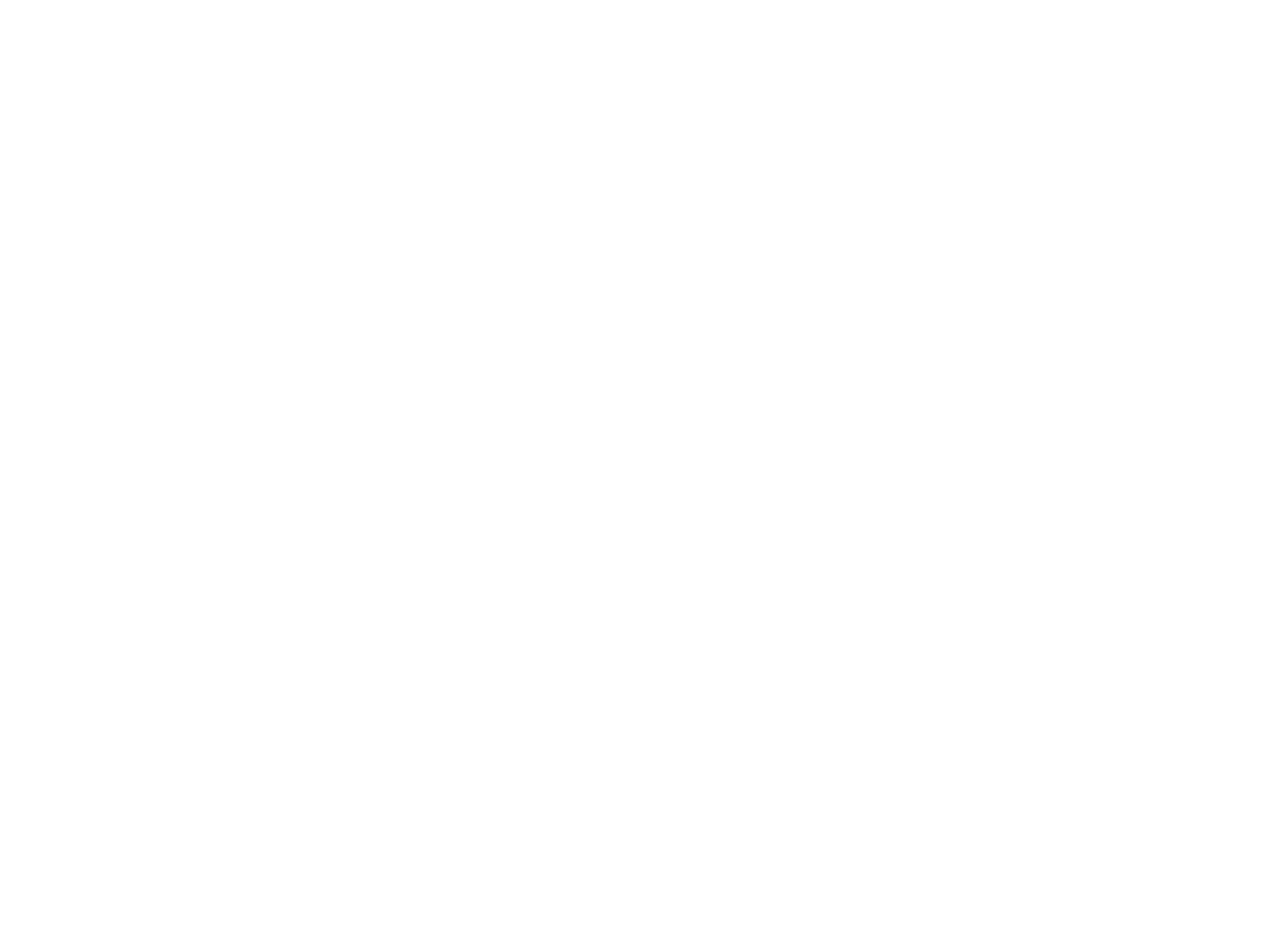
На письменном экзамене по математике я быстро решил все (не помню, 3 или 4 примера и задачи), кроме одного примера. Впереди у меня было больше половины отведенного на экзамен времени, и я стал педантично "крутить" последнее выражение с тройной степенью, но, увы, все бестолку. Через полчаса бесполезных усилий я стал понимать, что здесь что‑то не то. Я проверил на "решаемость" оба варианта, когда двойные степени в выражении записывал как произведение двух сомножителей. Один из вариантов был решабельным, тогда я подозвал дежурного преподавателя, который на мою просьбу о разъяснении записи выражения фактически в неявной форме подтвердил верность моего решения. Точно помню, что никакого испуга у меня при этом не было, но была легкая досада, что я не самый первый сдал выполненную работу, зря "потерял" больше часа (а потому не успел попасть на какую-то футбольную игру).
На устном экзамене по математике я тоже очень быстро написал на доске и ответил на два вопроса, а в третьем вопросе опять было степенное выражение (что-то вроде хº или аº). Экзаменатор попросил разъяснить смысл этой записи.
Я стал изголяться на эту тему всеми доступными мне способами:
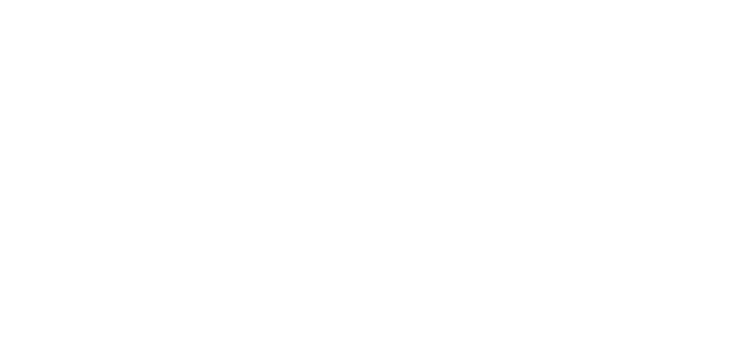
хº = 1 - есть просто условная запись "по определению" и доказательству не подлежит.
Экзаменатором был П.И. Швейкин, который впоследствии оказался нашим преподавателем на практических занятиях по математике. Обычно он помогал принимать семестровые экзамены Г.Ф. Лаптеву (он опрашивал, оценку докладывал Лаптеву, а тот только расписывался в ведомости и зачетке - "соблюение" академических правил было строжайшим), но известная часть наших офицеров предпочитала иметь дело на экзаменах только не со Швейкиным (уж он‑то о каждом из нас относительно математики знал "всё"). Поэтому на экзаменах они обычно просили нас, мальчишек, прикрыть их от Швейкина и, наоборот, дать им возможность, обогнув жестокого Швейкина, выйти на более снисходительного и даже улыбчивого Лаптева (иллюзия лучшей участи). Поэтому я почти всегда "попадал" на Швейкина и не помню экзамена, чтобы он не задал мне менее 3 дополнительных вопроса не по билету, а "совсем не в ту степь".
Но на последнем экзамене по математике Швейкин успел только раздать билеты, а по приходу в аудиторию Лаптева, его куда-то вызвали, и я собрался отвечать Лаптеву. По первому вопросу я исписал всю доску и хотел уже занять половину соседней, но Лаптев, окинув исписанную доску взглядом, скомандовал мне все стереть, отвернулся от меня и перешел для опроса к кому‑то другому. Я решил, что нужно писать ответ по следующему вопросу. Я снова исписал всю доску и после долгого ожидания своей "очереди" снова получил указание всё стереть, не отвечая. Я молча стер и уже не без волнения стал писать решение примера. К концу моей писанины в аудиторию вошел (часа через 2.5-3) Швейкин и спросил меня, почему я до сих пор стою у доски. Я сказал, что жду очереди для ответа. Швейкин подошел к Лаптеву и что‑то спросил, а тот засмеялся и, отдавая мне зачетку, сказал, что, выполняя приказ Швейкина, он еще до его ухода поставил мне пятерку, но запамятовал сообщить об этом мне.
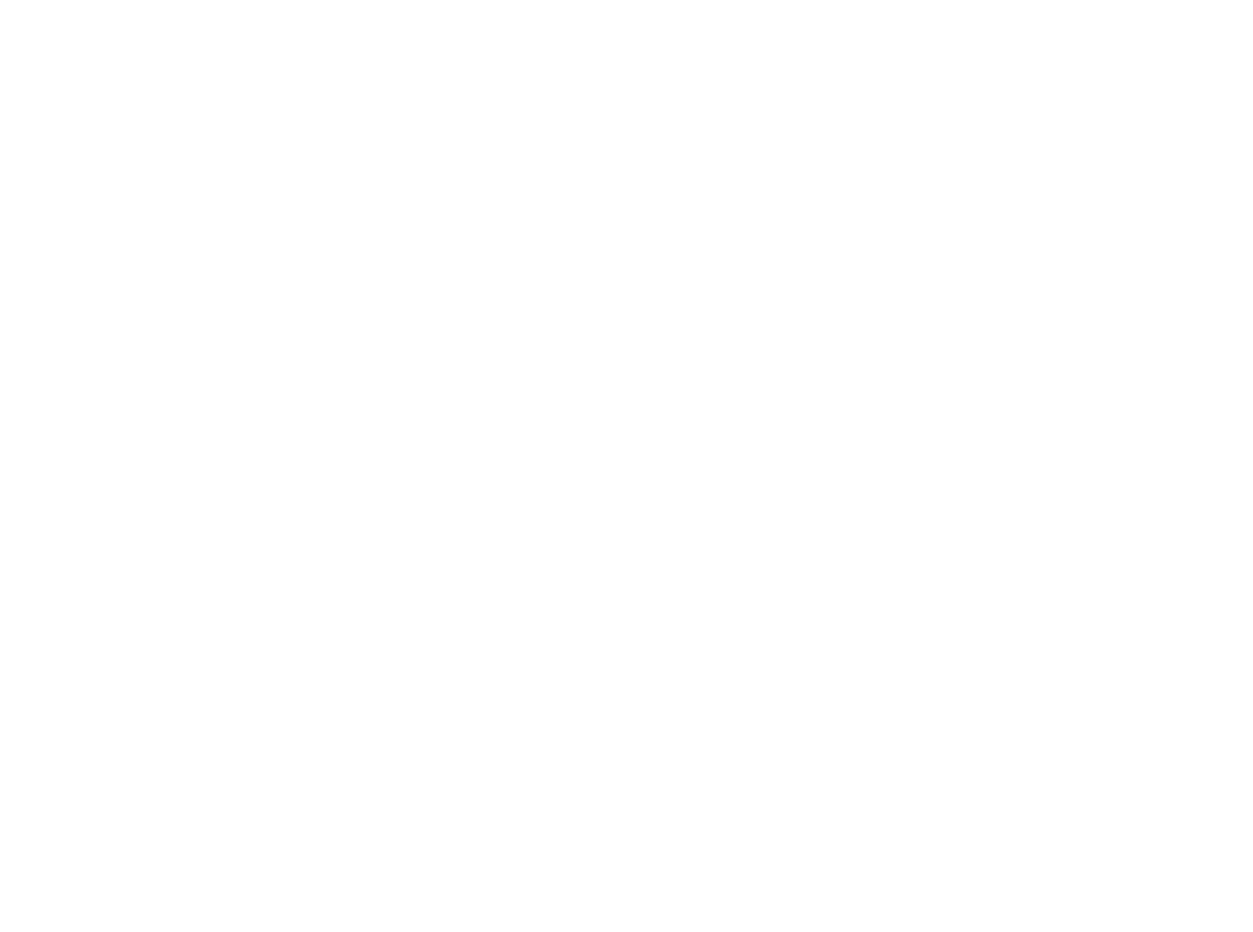
А вот расписание первых дней у меня сохранилось:
1 сентября
9:00-10:50 - химия (лекция) - Д-200
11:00-15:10 - машиностроительное черчение - Д-404
2 сентября
9:00-10:50 - высшая математика - Е-306
11:00-12:50 - иностранный язык - Е-306
13:20-15:10 - физкультура - Тимирязевский парк...
Пожалуй, "радостных" событий непосредственно в академии было не очень много. Все-таки большая психологическая разрядка была связана не с учёбой, а с "личной" жизнью и соответствующими всплесками "радости и горя". Видимо, постоянная жизнь в общаге сыграла свою роль.
Безусловно, все мы дружно болели за ЦДСА и в футбол, и в хоккей. Полковник Коротков приехал из Канады, где впервые выступала сборная СССР по хоккею и мы, раскрыв рты, слушали его эмоциональный и очень "патриотический" рассказ.
Незабываемы встречи Нового года в клубе академии, стакан водки, гром оркестра, танцы, взаимные поздравления, ожидания...
Очень душевные, по настоящему радостные были всегда приезды после каникул: треп, мелкое хвастливенькое вранье - приятно...
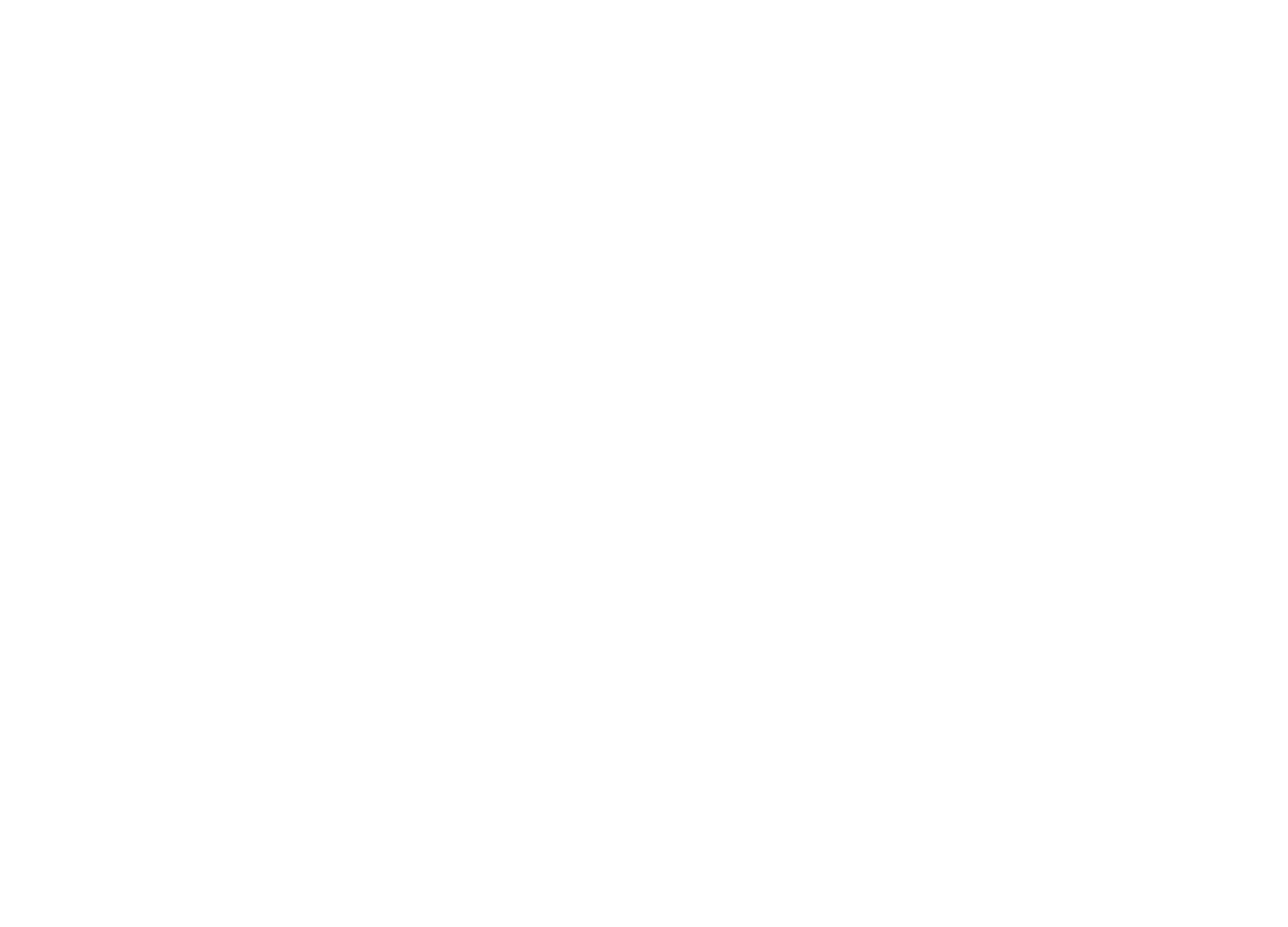
В академии я ничего не "получил". Точнее я, надрываясь и горбатясь, "приобрел все", а сделали, слепили меня таким, какой я есть, конечно, мои однокашники.
Я никого не копировал, ни под кого не подделывался, но никого другого, кроме них, у меня просто не было. Мне было трудно, иногда очень тяжело переделывать себя, но у меня было не просто зеркало, в котором я мог видеть: Who I am.
Нет, я жил в ауре, флюиды которой настолько проникли в меня, что как личность я воспринимаю себя только в качестве "одного" из ЭТОГО курса.
Ощущение уверенности (если хотите, наглости: "да все‑то мы могем") не просто помогало, оно доминантно определило всю мою последующую войсковую и научно‑педагогическую "карьеру". Да, чуть не забыл: конечно, диплом инженера-электрика мне (как и всем нам) в академии вручили и, как мне кажется, за этот ритуальный акт альма‑матер стыдно никогда не будет.
У меня всегда нехватало времени, чтобы его на что‑то "тратить", но, вероятно, время и нервы, потраченные на каллиграфическое исполнение чертежей механического редуктора или электрической машины, можно было употребить на менее выматывающее и малопродуктивное занятие. Я до сих храню ощущение белой зависти к Гене Кашехлебову, который чертил и художественно подписывал чертежи, играючи и почти без помарок. Конечно, были дисциплины, которые по существу, утилитарно в жизни не пригодились, но есть и такое обтекаемое понятие, как эрудиция, а также понимание того, что вот "это" или "то", ну совершенно не соответствуют твоим наклонностям и устремлениям...
Конечно, был преферанс, была бутылка на троих или четверых, но это был жизненно необходимый атрибут психологического выверта, иллюзорной возможности раскрепоститься, почувствовать себя не солдатом, а просто "шпаком", даже и в своей родной общаге‑казарме.
По окончании академии я точно ощутил печаль‑разлуку, чувство, что с Москвой я прощаюсь навсегда. Я съездил в Ленинград, повидался с вольчанами, попрощался с девчонками, последний раз погулял по Москве, спустил все до последних штанов и укатил в Забайкалье. По дороге вдруг "примерил" на себя туманно и неопределенно перспективы "научной" стези. Выдающиеся педагоги, да еще и все мои родные, сверходаренные и честолюбивые однокашники настолько развратили меня, что "войсковая" лямка до конца службы как‑то не прельщала.
В армейском быту были свои прелести, сложности, трудности и отупляющая повседневность гарнизона, где все (все!) знают о тебе всё.
Было только одно утешение - мои однокашники и близкие по духу выпускники из Можайки. В Забайкалье я жил в комнате с А. Купцовым и Г. Кашехлебовым, а в Сучане - с А. Купцовым и В. Остапенко. Полковая служба и жизнь в гарнизоне - это отдельный рассказ, кусок жизни, опыт, набитые шишки, испытание характера...
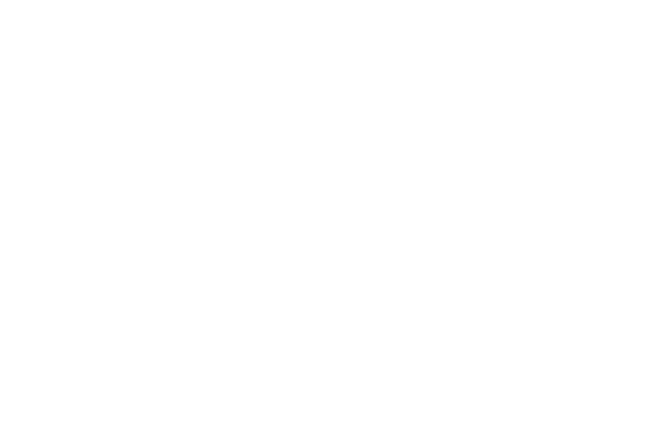
Вторая клубная сборная академии (всего их было от 3 до 5), в которой я был одним из лидеров, свои встречи в соревновании клубов военных академий Московского гарнизона в основном выигрывала. С удивлением среди своих бумаг обнаружил грамоту за третье место в соревновании академий в составе первой команды Жуковки. В первой сборной я играл нечасто и только по какой‑то форс‑мажорной оказии: болезни, травмы игроков основного состава и т.п.
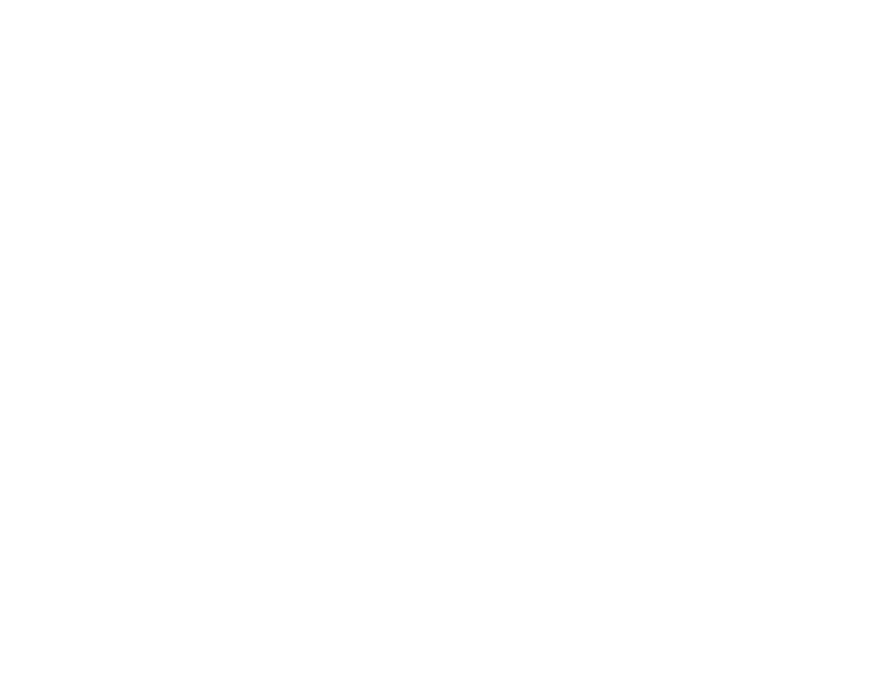
Вторая памятная для меня игра проводилась в Монино. Я играл за вторую сборную Академии, и в тот вечер у меня получалось всё. Я забрасывал мячи из‑под кольца после перехватов, в отрыве, со средней дистанции, крюком левой и правой, с дальней дистанции, а последний мяч под заключительный свисток забросил из центрального круга. В этой игре я установил личный рекорд по набранным очкам (забитым мячам).
Третья игра, которая особенно запомнилась мне, игралась в нашем зале, заполненном болельщиками. Это была встреча первой сборной с командой Дзержинки. Я сидел в глубоком запасе (после 4‑5 других запасных) и переживал только в качестве болельщика. Но в концовке второго тайма в нашей команде был за фолы удален основной "малыш" (разыгрывающий) - В. Анисимов (с которым, кстати, мы играли в Забайкалье, и который потом играл за сборную ДВО - пути господни неисповедимы). Наша сборная была чуть‑чуть впереди, а ответственность и напряжение были очень большими.
Глыба выдохнул мне: "выходи!" Я как никогда чувствовал себя очень скованным: ошибаться было нельзя, но нужно было брать игру на себя, в условиях прессинга самому дриблингом вести мяч к чужому кольцу. На ватных ногах я все‑таки ошибок не наделал и даже несколько раз очень удачно сбрасывал "своему" Ю. Сухорукову, которого чувствовал очень хорошо. Конечно, мы выиграли, иначе это "преодоление" вряд ли запомнилось.
Поскольку в стольный город я попал из глухой провинции, то эстетическое просвещение, по существу, начал с нуля. На первых порах, главным центром всех интересов, в силу очень многих и объективных, и субъективных причин, был стадион Динамо. Незабываемы зимние матчи по хоккею перед Восточной трибуной, в 20‑25-градусный мороз, с глинтвейном, притоптыванием и прихлопыванием, рев трибуны: "Бей Бобра!"
Незабываем штурм динамовского забора перед футбольными матчами сборной страны с чемпионами мира, сборной ФРГ, венграми (Кочиш, Пушкаш...), матчи сборной по легкой атлетике (В. Куц, В. Брумель, сёстры Пресс...) со сборными США, Англии... Лично для меня очень памятна Спартакиада народов СССР на Динамо перед Олимпиадой 1956 г., атмосфера праздника.
Инициатором всех посещений музыкальных концертов был Миша Мировский, он имел музыкальное образование, имел хорошую привычку ходить на концерты и завсегда таскал меня с собой. Диапазон неограниченный: Чайковский, Бетховен, Равель,.. Г. Александров, З. Долуханова,.. Утесов, Лундстрем, Рознер...
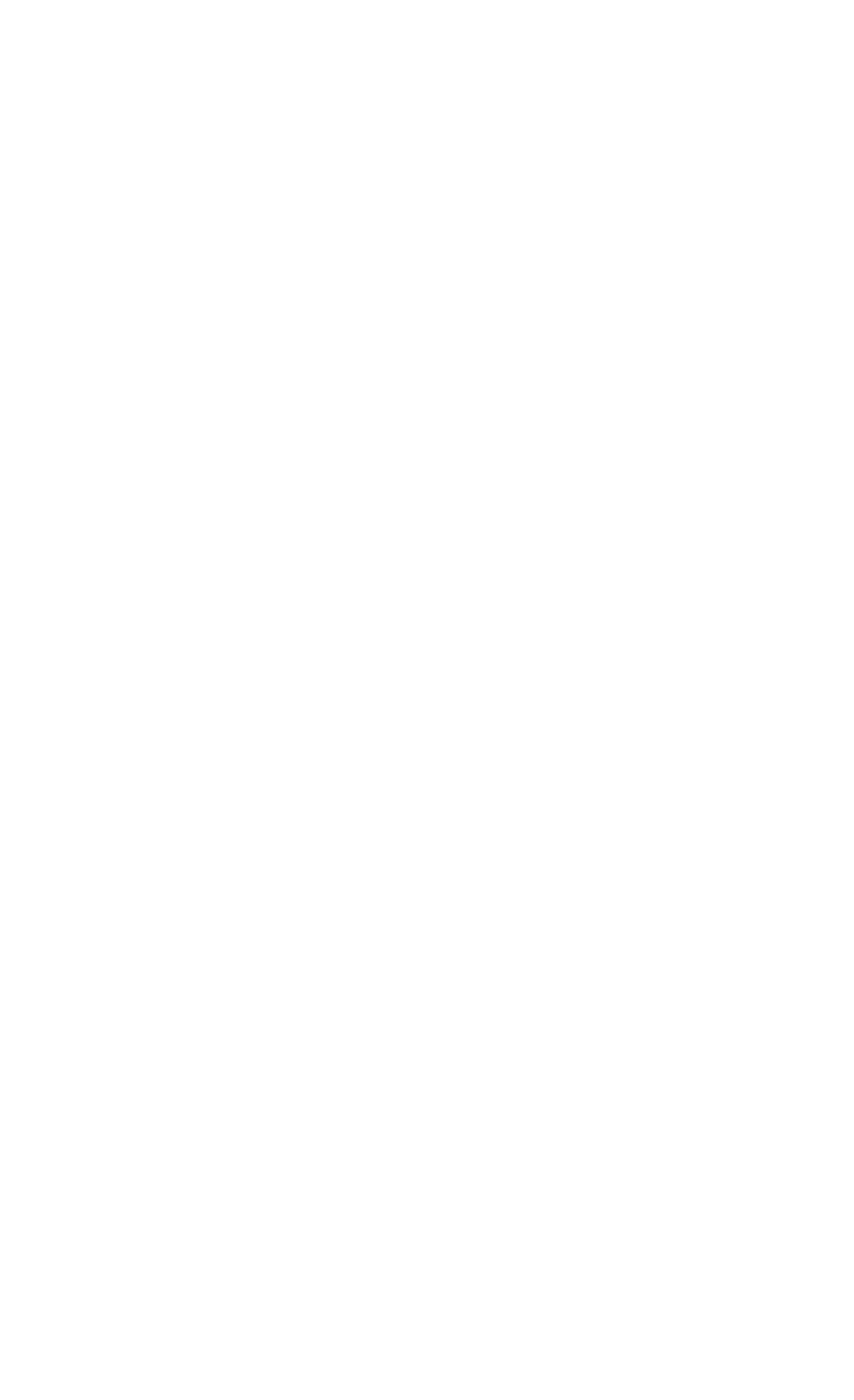
С ним же неоднократно бывал в Третьяковке, музее изоброзительных искусств им. Пушкина, на очень редких тогда вернисажах. Очень запомнилась впервые показанная в Москве выставка Пикассо в гостинице Советская, выставка картин, возвращенных в Дрезденскую галерею. Конечно, очень душевно нас просветили в Эрмитаже. Мы там были раз 5 или 6 и каждый раз наш экскурсовод расшибалась в лепешку, чтобы произвести впечатление на шайку молодых и симпатичных мальчишек. Когда я был в Ленинграде перед отправкой в Забайкалье, то со своими земляками, которые учились там, в Эрмитаже безошибочно находил Родена, Рембрандта, Ренуара... Именно с тех пор я ношу примиряющие меня с невзгодами и ущемлениями ассоциации-впечатления от картин Джорджоне и Боттичелли, Веласкеса и Эль‑Греко, Брейгеля и Босха, Модильяни и Ван‑Гога, Кустодиева и Серебряковой, Перова и Шишкина...
О друзьях–товарищах и не только
Мы прониклись друг к другу сразу, после первой нашей встречи на баскетбольной площадке в лагере. Это сложно объяснить, взаимопонимание без слов, чувство локтя, взаимоподдержка, доверие – все это трудноуловимо для логического обоснования, но все это реально чувствовали все наши однокашники. Мы так понимали друг друга, что некоторые наши попутчики, даже хорошо знавшие нас обоих, удивлялись тому, что мы с интервалом в 5‑15 мин вдруг говорили друг другу какие‑то обрывки фраз и великолепно понимали, о чем идет разговор, а им они казались какой‑то бессмысленной, нелепой тарабарщиной, не подлежащей уразумению.
Хотя Миша регулярно и не тренировался, но благодаря вдохновению, куражу, мы регулярно и курсовой, и факультетской баскетбольной командой играли удачно. Несмотря на небольшой рост, нам втроем удавалось доставить себе удовольствие, а соперникам неприятности. Мы с ним так понимали друг друга, что очень удачно играли и в футбол, "по колени в грязи".
С ним связаны мои первые и последующие выходы в театры и музеи, посещения концертов. Наше восприятие в каких‑то частностях могло и не совпадать, но в целом нам нравилось одно и тоже и в музыке, и в живописи.
В общаге мы все жили, как на ладони, но все воспринимали нас как дуэт. В мелких конфликтах мы всегда были заедино, а если нужно было мнение кого‑то из нас двоих, то любой из нас мог точно изложить это мнение за другого.
Конечно, у каждого из нас был и свой круг интересов. Миша был дружен с Л. Марковым, А. Айламазяном, А. Егоровым, да и многими другими. Я был близок с В. Михайловым, П. Дорофеевым, А. Фроловым (каток зимой)... Все мы были связаны общими интересами, привязанностями, учебой, все его друзья были и моими очень близкими приятелями, но Миша был всеобщим любимцем. Он был бескорыстен, предупредителен, великолепно, нутром ощущал твое настроение. Не счесть сколько раз только благодаря его дару поднять настроение, плюнуть на неудачи, происходила метаморфоза тоски, уныния, скуки в азарт действа, попытку авантюры... Он понимал и любил все красивое: одежду, девчонок, вино, музыку, ресторанный антураж...
Миша был сухощав, изящен, франтоват. В то время он любил шляпы, щегольские пиджаки и галстуки. В нашем дуэте в общении с "внешним миром" он играл заглавные роли и при первых знакомствах был волнорезом. Мы с ним бывали на танцульках в ряде "известных" клубов, в нескольких институтах. Я знал всех его подружек, даже тех, которые приезжали на гастроли из Ташкента на 10-15 дней. Некоторые из них, зная о нашем взаимовлиянии, пытались решать какие‑то свои проблемы через меня.
Первые три года мы проводили летние отпуска у родителей, дома. Он обязательно привозил из Ташкента дыню и виноград. Последние два года мы не расставались, вместе с Толей Егоровым ездили на лето в Сочи.
Возможно, не все было в розовом цвете, были, наверно, и ложки дегтя, но они не помнятся. Не будь Майка, и я, возможно, был бы другим. После учебы мы разъехались, но уже никто больше не смог как‑то изменить меня.
Как‑то под Новый год я сбежал из «курсов подготовки» в Горьком и через Муром приехал к нему в гости в Иваново. После Забайкалья встреча с ним была для меня настоящим глотком живительного воздуха – целых трое «новогодних» суток.
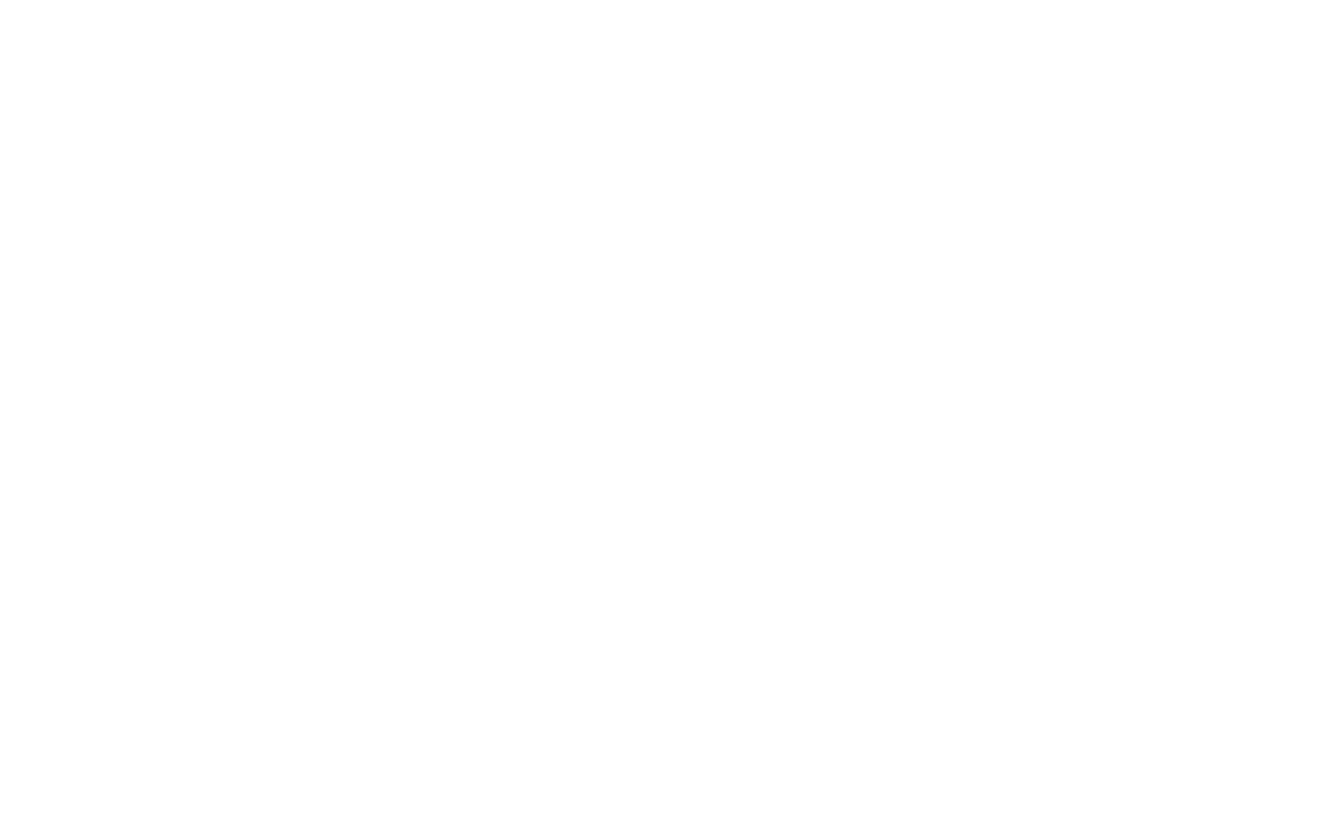
Два года подряд (5 и 6 классы), мы каждый день шли домой из школы (около 4-5 км) и непременно заходили по пути в "кинотеатр" (сарайчик мест на 40-50), где репертуар менялся ежедневно. В нем мы просмотрели тьму "трофейных" фильмов с Д. Дурбин и М. Рекк, про гангстеров и пиратов, про шерифов и ковбоев, про индийскую гробницу и Тарзана с Д. Вейсмюллером. С 7 по 10 класс я учился в Вольске и о Вите ничего не знал.
Перед одним из построений во время вступительных экзаменов, когда мы бродили во дворе 30 корпуса, я вдруг почувствовал на себе чей‑то пристальный взгляд. Я внимательно всмотрелся в белобрысого, улыбчивого абитуриента и что‑то у меня йекнуло. Сделав еще несколько кругов, мы по спирали уперлись друг в друга. "Ты – Юра?" – утвердительно спросил он. "А ты – Витя!" – подтвердил я. Мир тесен.
После лагеря мы попали на один факультет, в одно отделение и в 30 корпусе спали на одной койке: я внизу, а он надо мной – вверху. Мы сызнова притирались друг к другу, часто вспоминали о тех или иных эпизодах из Иркутской жизни, общих знакомых, родных местах. Был он улыбчивым, мягким, чуть‑чуть разбросанным, очень коммуникабельным и компанейским. Он никогда и ни с кем не вступал в конфликты, никогда не стремился в "лидеры", но в общем трепе с его мнением всегда считались. Был он фанатом "легкой" музыки, почти безошибочно угадывал мелодии, звучавшие по радио. Конечно, частенько ходил на концерты и рассказывал о своих впечатлениях.
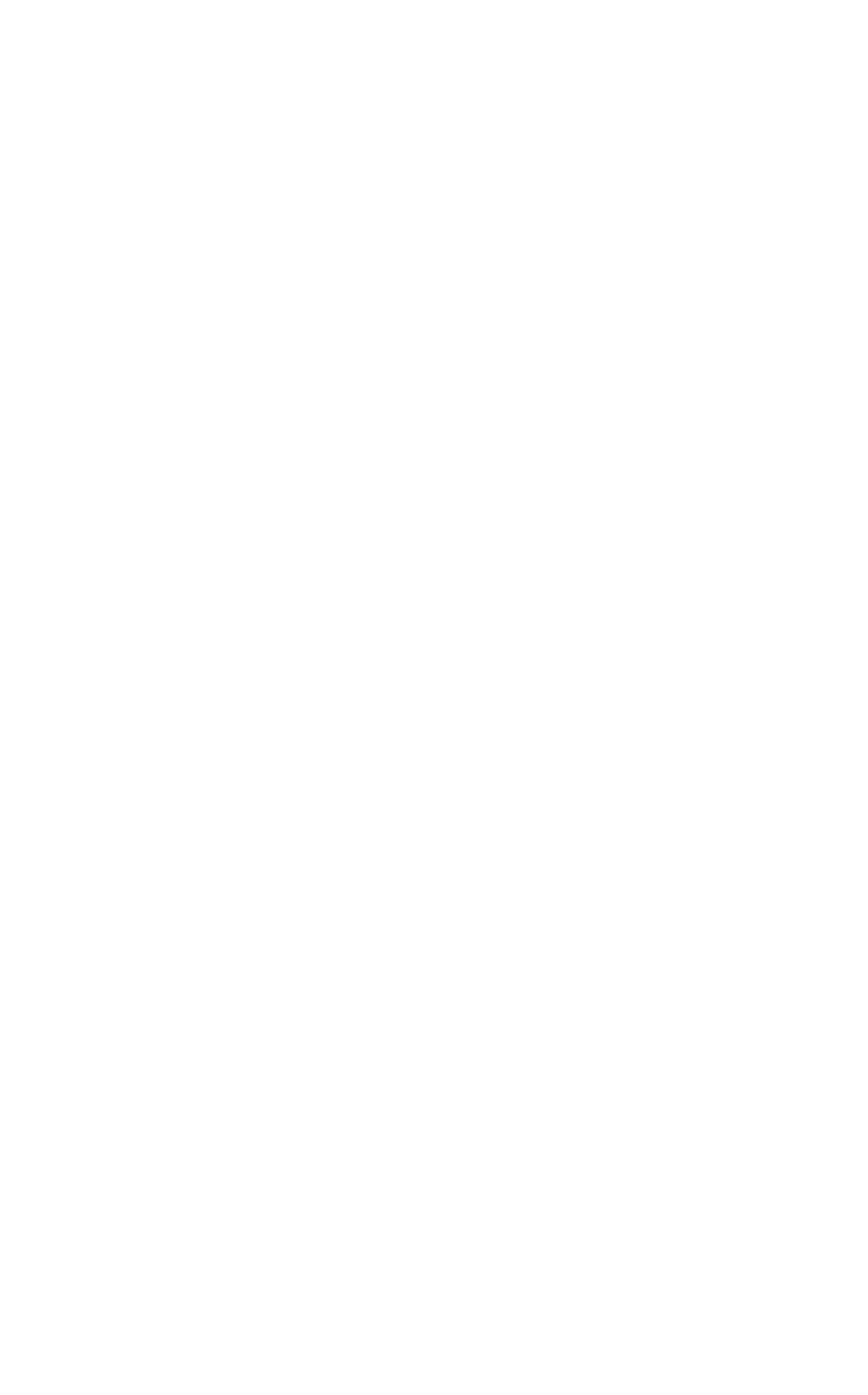
Но в конце каждого семестра нужно было сдавать экзамены. У нас на курсе холява на экзаменационной сессии практически была исключена (по крайней мере, я ничего об этом никогда не слышал). Лёва рос и получил воспитание в Петровском парке, вблизи Динамо и, как он мне сам рассказывал, если бы не спорт в детстве и юношестве, то мог бы пойти в жизни по кривой дорожке. Тем не менее, безалаберность была одной из важнейших черт его характера. После школы он поступил в МГУ (кажется, на физфак, с астрономическим уклоном), прозанимался там и, конечно, сдал экзамены, как минимум, за два семестра и, как максимум, за три семестра (Лёва об этом периоде своей жизни распространяться не любил). Но, безусловно, котелок (очень-очень большой) на его плечах варил достаточно хорошо, чтобы Лёва, по его самонадеянности, мог предполагать, что экзамены, хотя бы за первый семестр, он сдаст играючи. Однако надо было знать: а что же начитали лекторы за то время, пока они мозговали про балду на задних стульях. В первую очередь, Лёва обеспокоился об экзамене по математике – у Лаптева на «общей эрудиции» не выедешь, надо выдавать точные и строгие выкладки и доказательства. Миша Мировский успокоил Лёву: Юра Буртаев все конспекты пишет тщательно и без пропусков; когда третье отделение сдаст экзамен, то возьмёшь у него его конспект и – «no problem». Лёва поймал меня в перерыве между лекциями и попросил показать мой конспект по математике. Я отдал ему свою малогабаритную тетрадку с конспектами по матанализу (до сих пор она хранится в одном из ящиков, и я иногда достаю её, чтобы, не роясь в справочниках по математике, уточнить какой-нибудь математический формализм). Лёва быстро полистал исписанные страницы, измерил их суммарную толщину, прищемив исписанную часть тетрадки двумя пальцами, и с умиротворением хмыкнул: годится. После сдачи экзамена нашим отделением Лёва, для порядка спросив, как я сдал, взял у меня мой конспект. Через три дня Лёва (после сдачи экзамена по математике первым отделением) нашёл меня в аудитории и с вытаращенными глазами стал укорять без вины виноватого, махая тетрадкой перед его носом: «Ну, ты чуть не подвёл меня. Я-то подумал: страниц так мало, что я их за день расщелкаю, как семечки. А ты, нахал, записал конспекты таким бисерным почерком, что мне и двух ночей не хватило, чтобы добраться до конца твоей писанины». Немного отдышавшись, Лёва пришёл в себя и уже, подсмеиваясь над собой, рассказал, как он за два дня до экзамена утром поначалу вальяжно просмотрел первые две-три лекции (ещё с МГУ знакомый ему вводный материал) и решил, что листиков осталось немного и упираться нет никакого смысла. А потому с утра пошёл в бильярдную и только поздно вечером вернулся к «этим микроскопическим иероглифам в твоей тетрадке»: «чтобы рассмотреть некоторые индексы, хотел уже бежать за телескопом или микроскопом». Но на экзамене ему повезло: «конец моей писанины» ему не достался. На следующих сессиях, когда Лёва брал для подготовки к экзаменам мои конспекты, он всегда предварительно дотошно перелистывал все страницы и тыкал пальцем на каждый, на его взгляд, нечетко выписанный эллинизм или латинизм: «это что – фи или пси?»
Толя. Несомненно, для Лёвы бильярд не был занятием «абы как», подвернулся под руку – хорошо, не подвернулся – и не вспомнил о «чужом от борта в правую лузу». Бильярд был одним из трёх его постоянных пристрастий. Этому способствовали два важнейших обстоятельства. Во-первых, рядом, в клубе академии постоянно функционировала очень хорошая, по тем временам, бильярдная. Во‑вторых, вместе с ним, на одном курсе учился почти такой же, как и он, фанат бильярда: Толя Егоров.
Мультипликативное объединение двух важнейших обусловленностей: «рядом» и «вместе», – дало свой закономерный результат. Оба они испытывали резкий дискомфорт, если на некоторое время были отлучены от прохаживания вокруг прямоугольного стола, обтянутого зелёным сукном, звука при ударе шаров, натирания кия мелом и много чего другого, что никак не понять непосвященному в это таинство.
Когда мы втроем (Миша, Юра и Толя) приезжали в Сочи, то Толя буквально изнывал, если какой-то время не посещал бильярдную в парке Ривьера.
Наш начальник Б.А. был прекрасно осведомлён о бильярдных увлечениях двух колоритных персон, которые постоянно инициировали у него «головную боль». Он запретил им появляться в бильярдной клуба академии в «учебное или служебное время» и проверял исполнение этого распоряжения по журналу посетителей, который для порядка вёлся в этой бильярдной. Но что может остановить страждущих мыслителей?
Они придумали для себя псевдонимы, которые и записывали в журнал бильярдной. Толя Егоров записывался Ершовым, а Лёва Марков – Масловым. Конечно, не бог весть, какова трудность расшифровки такой конспиративной уловки. Но ведь не уголовное же дело – расследованием никто заниматься и не думал.
Эпизодически и Толя, и Лёва посещали и другие московские бильярдные.
Но все-таки академическая была вне конкуренции. Если бы в то время проводились соревнования по бильярду, то нет никаких сомнений в том, что оба наших конспиратора были бы в числе основных претендентов на титул чемпиона академии и в этой разновидности противостояния. Правда, противоборства не разделённых сеткой непримиримых соперников, а объединённых привязанностью к столу с лузами партнёров.
Конечно, у Лёвы были и другие компаньоны по бильярду. Несколько раз нам довелось пересечься с Лёвой в Центральном Доме Советской Армии, где тоже была очень приличная бильярдная.
Там партнёрами Лёвы были достаточно известные спортсмены: теннисист Семён Фридлянд, прыгун в воду Роман Бренер и другие, менее постоянные партнёры. С ними же Лёва регулярно «на стороне» резался в преферанс, иногда серьёзно, «по крупному».
Юра и Кo. В отличие от преферанса «на стороне» наш курсовой, «внутренний» преферанс носил, скорее, характер отдохновения, некой разрядки, психологического переключения. Его меркантильная сторона практически была близка к нулю. С преферансом нас (Юру, Мишу, Толю) познакомил Жора Шамаев еще на первом курсе, когда мы жили в 30 корпусе, вместе со вторым курсом нашего факультета. Все слушатели того второго курса осенью получили звание «младший лейтенант» и к нам, естественно, относились несколько покровительственно, патерналистски. Ежедневно мы вперемежку занимали краны перед зеркалом в единственном на всех помещении, ходили по одному коридору и, конечно, в той или иной степени, были знакомы друг с другом. Новоиспечённый младший лейтенант Жора Шамаев интуитивно почувствовал в нас с Мишей, зелёных первокурсниках в кирзовых сапогах, родственные души. Он, иногда вместе с Оскаром Игнатенко (Жора звал его Осей), приглашал нас составить ему компанию, поучаствовать вместе с ним в каком-нибудь расслабе, приобщении к светской жизни: подегустировать хорошее вино или, на худой конец, коньячок (ни-ни, никакой водки – это так пошло); посетить танцульки в каком-нибудь экзотическом заведении (к примеру, в клубе Московского округа ПВО на Серпуховке); сходить на концерт джаз-бенда; расписать пульку. Когда предшествующий курс переехал в офицерское общежитие, в отдельные квартиры многоэтажного дома, выходящего в Петровский парк, то угадки прикупа приняли там массовый и регулярный характер. Иногда приглашали и нас, для укомплектования компании до нужного состава. Так что к переезду на второй этаж здания, примыкающего к академической санчасти, наиболее продвинутая часть нашей общаги была в области преферанса достаточно натаскана и вполне боеспособна.
Естественно, что такой знаток вариантов для ловленного мизера, как Лёва, частенько заходил в «наш клуб», чтобы «накрутить колёса» в треугольном сегменте расчерченного листа под своим псевдонимом. Здесь Лёва был в своей стихии.
При раздаче, заученными движениями, не глядя на свои руки и раскачиваясь влево-вправо, он бросал по две карты и, как будто ненароком, успевал заглянуть в карты соседа. Если кто-то проявлял недовольство: «Лёва, не жульничай!», – то Лёва эти претензии парировал цитированием наизусть своего любимого бравого солдата Швейка: «Без жульничества тоже нельзя! Если бы все люди заботились только о благополучии других, то ещё скорее передрались бы между собой!» Эти же слова взял у Лёвы на вооружение и Толя Егоров (и не только для преферанса).
Лёва, как многоопытный профессионал, следил за динамикой мастерства однокурсников в этом виде единоборств и в немалой степени способствовал его отшлифовке.
В начальный период становления наших постоянных квартетов, для затравки, он провокационно заявлял: «Я, конечно, выше всех вас на голову, но мне интересно поиграть с неопытными преферансистами. Ведь по недомыслию, дилетантски, в азартной запальчивости вы иногда так торгуетесь, что у ветерана преферанса уши бы покраснели от фантастического фарта: один из вас к тузу, вальту и семёрке на мизере в прикупе получает даму и девятку той же масти!»
После сдачи карт, во время торгов, Лёва держал декуплет карт, повёрнутых друг от друга под углом 3-5 градусов, но не больше 6-7 градусов, в одной своей лапище так, что за его огромными пальцами их просто не было видно. При торговле он не только старался подсмотреть в карты своих компаньонов, но и внимательно следил за выражением их лиц. Он изучал и анализировал малейшие нюансы в их поведении: нервные движения рук, гримасы неудовольствия, импульсивные подёргивания век, последовательность перестановки карт (согласно их старшинству). В сектор, сканируемый его взглядом, не попадала только его собственная ладонь: свои карты он запоминал мгновенно.
Если прикуп доставался ему, то, независимо от состава сложившейся дюжины карт, он играл (5-10)-секундную пантомиму: морщил лоб, хмыкал, хлюпал носом, изображая крайнее разочарование прикупом, туда-сюда двигал карты в своей ладони, но куда какую – понять было невозможно. Иногда свои гримасы он сопровождал дезориентирующими междометиями и дезинформационными комментариями. Если, к примеру, при объявленной шестерной он прикупал короля и семёрку к тузу, даме и восьмёрке той же масти, то обязательно плевался: «И чего я не рискнул на мизер!» Он не любил бросать карты сразу, без игры, «по раскладу» – всегда надеялся, что кто-то при розыгрыше обмишулится.
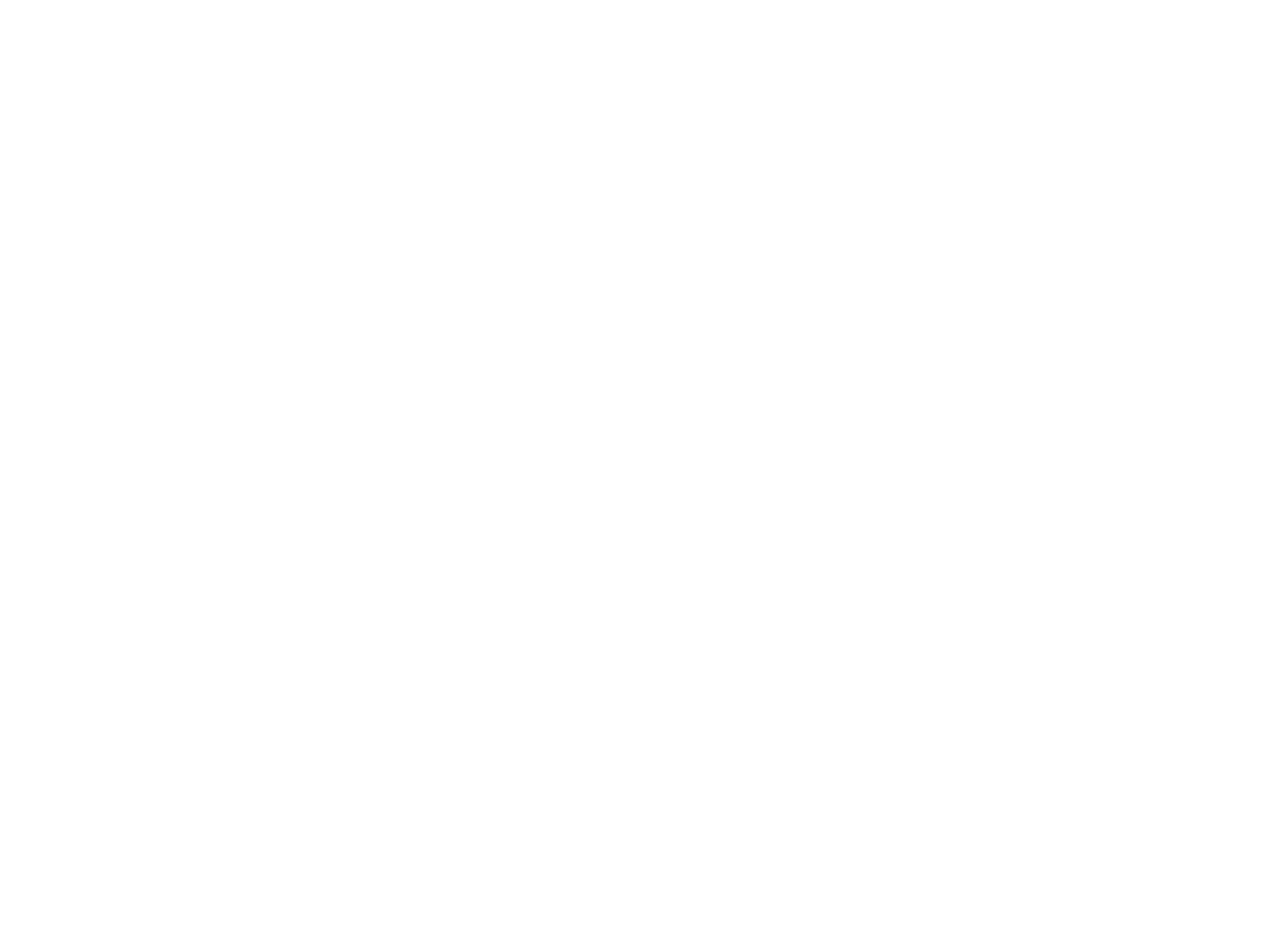
Лёва в электричке не мог не организовать несколько квартетов, которые с азартом успевали расписать «сочинку» за время переезда.
Каждое утро в 9 часов у нас было построение на заводском стадионе с последующей беготнёй в народный, общедоступный футбол (сносно останавливать мяч и ударять по нему умели почти все) или светским перебрасыванием маленького белого мячика через длинную невысокую сетку на песчаном корте для избранных. (Когда я сейчас смотрю трансляции футбола из Раменского – матчи «Сатурна», то вижу прекрасный стадион и, с грустью, вспоминаю наши игры и на большом, хорошем даже в то время футбольном поле, и на отличных теннисных кортах вместе с Л. Марковым.)
На заводе мы изучали конструкцию приборов и целых пилотажных систем, что очень пригодилось впоследствии многим моим однокурсникам. Во время обеденного перерыва мы выходили в заводскую столовую, сдавая на проходной наши пропуска. Однажды в Раменском произошло ЧП. В тот день группа практикантов после обеда понежилась на солнышке в красивом сквере, но потом, не сговариваясь, пошла не на завод, а на железнодорожную станцию. В электричке партнёров по обязательной пульке Лёва всю дорогу развлекал анекдотами и смешными историями из своего богатого репертуара. На построении в следующее утро всем участникам этой весёлой ватаги было приказано выйти из строя. Руководитель практики подполковник Кириленко с грозным видом прохаживался перед шеренгой штрафников из 7-8 человек.
«Ну, сейчас Меф нам покажет кузькину мать» – пробурчал про себя Лёва.
Все на курсе знали этот псевдоним, причём Лёва иногда своими тропами и метафорами красочно расцвечивал его этимологию: Кириленко – Кирилл и Мефодий – Меф (кратко и по предназначению исчерпывающе).
Кириленко перед строем офицеров дал запредельно убийственную, на его взгляд, оценку нашему неслыханному проступку – коллективный побег! Затем ещё несколько раз, уже молча, он прошёлся вдоль шеренги нарушителей распорядка (утверждённого командованием и согласованного с руководством завода!) и приступил к допросам.
Наивный страж неукоснительной дисциплины! Неужели он рассчитывал получить хоть в какой-то степени правдивое объяснение-оправдание хоть от одного из потупивших взоры разгильдяев. Не тут-то было. Мы – как колобки! И не такое событие мы были в состоянии замотать, отбрехаться и укатиться во‑свояси. На потеху всему строю начались непритязательные импровизации. Наконец, очередь дошла до меня: «Я очень поздно ушел с завода на обед и поздно пообедал (это была правда). Когда я подошёл к проходной, то увидел, что она заперта, и меня на завод не пустили (простенький вариант для «лапши на уши», да и лень было выдумывать что-то более увесистое)».
– Почему же Вы не позвонили руководителю практики?
– Не догадался…
Я стоял с удручённым и невинным видом, и Кириленко, обезоруженный таким, ничем не прикрытым примитивом, повернулся к Лёве: «Марков!»
Лёва не позволил себе выглядеть простаком (и ростом он – не гном) и стал рассказывать ужасную историю. Все его родные уехали из Москвы на дачу, ему поручили в 3 часа дня покормить собаку, а потом обязательно погулять с ней в Петровском парке.
Всем стоило очень больших усилий, чтобы, глядя на искренне огорченного и крайне озабоченного Лёву, не лопнуть со смеху.
– Какая еще собака? – изумился Кириленко.
Лёва наглядно проиллюстрировал, сопроводил свою душераздирающую новеллу указующим положением ладони, вровень со своим пупком:
– Вот такая большая, большая‑большая собака!
Кириленко, ошарашенный такой порцией нахального притворства, несколько секунд смотрел в честные, как у Швейка, глаза, округлившиеся от недоверия к его рассказу, а потом махнул рукой, даже не дойдя до последних нарушителей.
– Это неслыханно! За всю мою службу мне не приходилось выслушивать такого количества неправдоподобно наглого вранья! Имейте в виду, с сегодняшнего дня я каждый день после обеда буду проверять отдельный ящик с вашими пропусками.
Вот оказывается, как он нас всех вычислил, ревностный исполнитель контроля и учёта! В другие дни, расписывая в электричке очередную сочинку, шутники спрашивали:
– Лёва, а как же звать твою большую, такую большую собаку?
– Какая еще там собака! У меня никогда в жизни не то, что собаки, даже кошки не было! Большая собака – мой подарок нашему дорогому Мефу.
За несколько дней до окончания заводской практики наш старшина Виктор Сорокин (псевдоним – Джек) объявил, что в следующее воскресенье Лёва Марков женится. Было предложено всем скинуться и купить Лёве свадебный подарок от однокурсников. Коллективной соображалки хватило только на то, чтобы купить не то хрустальный, не то чугунный кувшин. Ещё было предложено тащить жребий, чтобы выбрать несколько делегатов от всей нашей группы, которые присутствовали бы на свадьбе и вручили наш подарок. Посыпались массовые отказы, с мотивировками, очень напоминавшими наши недавние объяснения Мефу. Естественно, что мы с Алексеем Купцовым, постоянные компаньоны во многих им любимых разновидностях игр, получили персональные приглашения на свадьбу, а потому нам и доверили ответственную миссию.
Инструктаж Лёвы был лаконичным: нам вдвоём явиться к станции метро Динамо, где нас встретит его младший брат Юра, которого все звали «Молода» («Ты, Майкл, с ним знаком» – утвердительно напомнил Лёва). Мы встретились в означенном месте, добрались до Савёловского вокзала, а оттуда на электричке приехали в Долгопрудный. Молода от станции провёл нас какими-то переулками-закоулками, и мы оказались у крепкого деревянного дома с большим двором и маленьким садом-огородом. Там нас уже ждали сияющие Лёва с Ириной, матушка Лёвы и школьная подруга Ирины, Вета (дочь профессора первого факультета полковника Лоцманова). Мы торжественно вручили Лёве подарок, который с ворчанием по дачным закоулкам тащил Лёша Купцов, и вскоре нас пригласили к столу, накрытому на красивой веранде. Как и положено на свадьбе, мы что-то пили, что-то ели, кричали: «Горько!» В перерывах между раундами застолья прогуливались по двору, пели какие-то песни и снова ели-пили. Уже под вечер, после очередной прогулки мы увидели Льва‑молодожёна во всей красе – он сидел на веранде в шезлонге, большой, румяный, красивый, и сладко похрапывал. Ирина смущенно разводила руками, а мы стали собираться к отъезду: незаметно наступал вечер.
Когда мы с Лёшей стали озабоченно вспоминать бесчисленные повороты в переулках-закоулках (Молода давно удрал в Москву), к нам, улыбаясь, подошла Вета Лоцманова и сказала, что дорогу она знает и нас проводит.
«Я тоже поеду домой, нам по пути» – совсем успокоила она нас.
Втроём мы неспеша добрались до станции, сели на электричку, а на Савёловском вокзале Лёша распрощался с нами. Уже вдвоём, мы с Ветой сели на трамвай, доехали до Масловки и проводили друг друга до самого дома. (Вета с родителями жила в доме напротив клуба Жуковки, а я – в общежитии, во дворе этого дома.)
Лёва стал еще одним из «молодых» женатиком на курсе, но изменение семейного статуса практически не повлияло на его генетически игроцкую натуру и не сказалось на его пристрастиях даже в малейшей степени.
И вдруг, совсем нежданно-негаданно, пришло время подводить итоги нашему обучению. Первого сентября началось дипломное проектирование. В 30 корпусе нам выделили огромное помещение, сплошь заставленное кульманами и рабочими столами. Лёва расположился рядом со мной, у окна, которое выходило на Масловку.
К началу дипломного этапа каждый из нас уже обладал некоторым опытом, навыками и, с той или иной степенью ответственности, мог планировать и организовывать те четыре месяца, которые предназначались для выполнения дипломного проекта. Но все понимали, что времени для совместного бытия нам осталось немного, а потому почти сразу были организованы спортивные баталии. Любимым и наиболее массовым развлечением стала азартная игра в футбол: между отделениями. Сначала мы остервенело месили грязь в небольшом дворике напротив входа в 30 корпус (прохожие, раскрыв рты, замирали у ограды этого дворика, глядя как взрослые дядьки гоняют мяч, по щиколотку утопая в лужах, и во всю глотку комментируют каждый удар непечатными словами). Поздней осенью и почти до декабря футбольный мяч гоняли во дворе 30 корпуса.
Юра и Кo. Другим развлечением стал пинг-понг. Стол для пинг-понга стоял у входа в зал, и Б.А. запрещал игры в «рабочее» время, но фактически шарик стучал по столу в любое время, если Б.А. в ближайшей окрестности не было. В пинг-понг играли почти все. Но и здесь королем был наш великий игрок, да и кто мог потягаться с Лёвой, если он брал ракетку в руки. И не имело никакого значения, большая это ракетка, со струнами, или совсем маленькая, фанерная. Возможно, что стол для пинг-понга (вдобавок к бильярдному) мог быть ещё одной ареной не только для демонстрации Л. Марковым своих талантов и навыков в подкрутках и закрутках целлулоидного шарика.
Не исключено, что и у этого стола Лёва имел потенциальную возможность реально претендовать на титул чемпиона академии. Даже Володя Скабицкий, почти всегда имевший нахмуренный вид и желчное настроение, улыбался до ушей, когда Лёва из-под ноги закручивал шарик так, что Толя Егоров был не в состоянии его отбить. «Лёва, а если ты через раз будешь бить торцом ракетки, то сможешь у меня выиграть?» – провокационно спрашивал Кега, сменяя проигравшего Толю и готовясь принимать подачу. При отказе Льва бить ребром и встречном предложении бить по очереди правой и левой рукой, Кега трансформировал фору для себя: пусть все входящие в зал и выходящие из него проходят во время игры между столом и Лёвой, а не за его спиной.
Условия для работы над проектом были тяжкие (ну, совсем невмоготу), разрабатывать технические устройства и системы было нудно и утомительно. Само собой, в первые два месяца осени Лёва с Толей надолго отлучались из душного зала с кульманами. В нём всё время стоял гул, хлопала входная дверь, а потому они после пинг-понга регулярно совершали оздоровительный променад через Петровский парк, чтобы отметиться в журнале под псевдонимами Ершов и Маслов.
Миша. Время шло, и еженедельно руководители проектов определяли своим подопечным процентное выполнение выданного задания. На основе этих процентов на ежедневных построениях курса производился «разбор полётов» с соответствующим внушением. В силу вышеуказанных, крайне объективных обстоятельств, Лёва раскачивался долго. На взгляд его шефа, непозволительно долго.
Очень длительное время напротив фамилии Марков стояла унылая цифра – 15 %. Где-то в середине октября руководитель его проекта, в очередной раз внимательно просмотрев выполненный материал, грустно сказал, что Лёва так и не вышел из 15 %. Но Лёва возмутился и указал рукой на чистый белый лист, приколотый к его кульману:
– Позвольте, но ведь я уже нанёс вот эти осевые линии на сборочном чертеже!
– Что Вы говорите! Почему же Вы сразу мне их не показали? Так, так, сразу видно, что Вы совершили большой прорыв. Ставлю Вам целых 16 % – такова была реакция шефа. Смеяться было неудобно, но было очень комично видеть нарочито серьёзного, строгого преподавателя и нарочито растерянного, недоумевающего Лёву: каждый играл свою роль, согласно своему служебному статусу.
Игрок Лёва имел партнёра с не худшей реакцией и способностью к импровизации.
В ноябре каждый из нас стоял у изрядно надоевшего кульмана или сидел за своим столом: что-то чертил, что-то писал, что-то считал.
И в то же время каждый при этом развлекал себя тем или иным способом.
Некоторым очень нравилось исполнение собственной песни нашим бравым Кэпом (Н. Покусаевым) на знакомый мотив песни «Крутится, вертится шар голубой»:
- Дир-дар-дар, дир-дар-дар, дир-дар-дар, дир-дар-дар и т.д.
- Коля, твои стихи прекрасны, но ведь есть же у этого мотива родные слова, - поначалу насмешливо замечали ему соседи.
- Я забыл все слова на свете, - парировал Коля.
- Хорошо, давай мы тебе напишем слова на бумажке и весь текст повесим на твой кульман, а ты будешь их читать, по слогам.
- Да я не только слова, я ни одной буквы не помню!
Музыкальная программа у Льва Маркова была более презентабельной. Лёва очень любил кукольный театр Образцова, а «Необыкновенный концерт» знал наизусть. В этом «концерте» с сольным номером выступал джаз-модерн квартет (как бы пародия), в состав которого входили «музыканты» Дидл, Бадл, Дудл и Семенов. В транскрипции Лёвы они назывались чуть по‑другому: Дидл, Бадл, Дудл and Beridl. Лёва мурлыкал весёлую песенку, в которой рассказывалось, как эти ковбои ехали по бескрайним американским прериям, пока не наткнулись на большой тополь, вокруг которого сидели индейцы (неизвестно как туда попавшие). И этим самым индейцам квартет «музыкантов» спел свою главную песню. К сожалению, сейчас я помню только четыре последние строчки, которые Лёва мурлыкал на мотив популярной в то время песенки «Джонни» (Johnny is a boy for me…):
Где растет громадный топл:
Дидл - я так тебя люблю!
Бадл - без тебя я жить не могу!
А Beridl - крик души and vopl!
По сравнению с песенным творчеством бравого Кэпа, эта музыкальная композиция, со своим глубоким подтекстом для окружающих, тянула на супершлягер.
Когда нам становилось совсем тошно, мы просили Лёву исполнить нашу любимую песню «про тополь, крик души and vopl». Лёва в охотку, без всякой фонограммы исполнял свой шлягер, а иногда и повторял его на «бис».
Однажды после обеда, когда я прохлаждался в коридоре, ко мне подошёл симпатичный капитан и тихим голосом вежливо попросил позвать лейтенанта Маркова, дипломный проект которого он должен был отрецензировать. Я кивнул головой в знак полного понимания, просунул в дверь свою голову и, вспомнив бильярдный псевдоним, крикнул: «Маслов!» «Я!» - через 3-4 секунды отозвался Лёва (видимо, в полудрёме не сразу сообразив, кого вызывают, да еще не голосом Ершова).
- «Вихады!» - с узбекским акцентом отдал я парольную команду.
- «Простите, мне не нужен Маслов, мне нужен Марков…» - сказал капитан.
В это время возник Лёва, перегородив своей фигурой весь дверной проём, так что в коридоре сразу стало темно. Вид у него был немножко заспанный, но рапорт была на должном уровне: «Техник-лейтенант Марков Лев Дмитриевич!»
Капитан поначалу остолбенел. Он поводил глазами с меня на Лёву и обратно, а потом отошёл вместе с Лёвой в сторонку, и они занялись обсуждением рецензии.
Дипломное проектирование подходило к концу. Лёва поднапрягся, помозговал, пошевелил руками, и у него уже было не 15-16%, а гораздо больше: в длинном туннеле проектных этапов замаячил желанный финиш. Поэтому после обеда можно было на своём рабочем месте сладко подремать. Увидев, что Лёва слегка отключился, Юра Буртаев, проходя мимо него, изобразил нарочито чеканный, парадный шаг, с громким ударом на всю ступню. «Буртазян, ты чего топаешь, как слон»… - проворчал Лёва, приоткрыв только один глаз.
- А как слоны топают? Я с ними в одном полку не служил!
- Ничего! Вот скоро получишь академический диплом, тогда и послужишь… И со слонами, и с верблюдами, и с ишаками.
Лёва оказался пророком, но это уже «другая история».
Как москвич, а также по гораздо более важному обстоятельству (Лёва бессменно и, что самое главное, успешно отстаивал честь академии по теннису) он остался в академии, но инженерство так и не стало его основной профессией. Сначала он перебрался в редакцию газеты «Советская авиация», а после упразднения авиационной газеты (да кому интересна эта замшелая авиация) Лёва перешёл на работу в «Красную звезду». Уйдя от газетчиков, к концу своей военной службы Лёва оказался в Воениздате, где выполнял ответственные функции научно-технического редактора и дослужился до полковника. В Воениздате некоторый период коллегой Лёвы была жена Алексея Купцова – Люся, а начальником Воениздата (и конечно, Лёвы) одно время был нам всем хорошо известный генерал В.В. Кажарский. Но это уже ещё одна «другая история».
Юра и Лёша. По приезде в Москву Алексею стало нехватать спортивных переживаний, потому, что лыжи все-таки – достаточно индивидуальное занятие. К тому же на лыжах можно было кататься только зимой. Он жил недалеко от института физкультуры и его многочисленных спортивных залов и площадок. А поскольку Лёва Марков был неотразимым пропагандистом – личный пример заразителен, то какими-то неслучайными совпадениями Алексей познакомился с теннисным сообществом. Самой заметной фигурой в этом кругу был Володя Голенко. Тогда он был аспирантом кафедры тенниса, работал над кандидатской диссертацией, а жена Алексея, Люся, будучи хорошим переводчиком, помогала будущему кандидату пед. наук в некоторых переводах. Но, самое главное, было то, что В. Голенко не только сам прекрасно владел ракеткой. Он обладал даром не только рассказать, как научиться это делать, но и показать самому, как это надо делать «правильно». Так, что Алексей и его жена стали заядлыми теннисистами.
Когда я был оставлен в Дзержинке на кафедре после окончания адъюнктуры, в академии наблюдался местный теннисный бум. На территории рядом с учебным корпусом было два ухоженных корта, и около 30 активных теннисистов практически занимали эти корты с утра до самого вечера. Играли в теннис и мои близкие приятели. Они мне говорили: бросай свой баскетбол – и по статусу, и по возрасту тебе пора переходить на теннис. Как-то мы затронули эту тему с Алексеем, а тот мне сказал, что он знаком с лучшим московским инструктором по теннису, который может научить кого угодно. «А уж тебя, с твоей настырностью, с полной гарантией» – вдохновил он меня. Мы договорились с лучшим московским тренером о встрече на кортах Динамо, за Столешниковым переулком. Это был Владимир Алексеевич Голенко. Он уже закончил аспирантуру, стал кандидатом педагогических наук и начинал свою административно-педагогическую карьеру. Это еще одна «другая» и очень интересная история (упомяну лишь о том, что именно он способствовал началу карьеры Ш. Тарпищева и, имея соответствующие полномочия, фактически назначил его тренером сборной).
Володя Голенко, несомненно, был выдающимся педагогом, великолепно знал технику всевозможных ударов и умел очень тактично указать на неправильную координацию, «грязь» в движениях рук и ног. Словом, именно он вложил мне ракетку в руки и за те несколько недель, в течение которых я приходил к стенке на корты Динамо, он дал мне несколько советов и рекомендаций по работе ног при подходе к мячу, замахе при ударах слева, справа и т.д. (Я хорошо знал местоположение этих кортов в глубине огромного квартала. Зимой там заливали лёд и несколько раз я посещал этот довольно «фешенебельный» в то время спортивный комплекс для узкого круга избранных и зимой, и летом. Когда я подходил с ракеткой к проходной этого комплекса, то на вопрос охранника говорил пароль: «к Голенко!») Примерно через месяц он напутствовал меня: «Чувство мяча у тебя есть. Общая координация – в порядке. А дальше больше играй, изучай учебные пособия, смотри, как играют другие. Уверен, что через годик регулярных занятий у стенки и на корте ты будешь от игры получать удовольствие и сам, а также заставишь попотеть своих партнёров».
Так я стал ещё одним завсегдатаем наших двух кортов на территории академии и активным зрителем на всевозможных турнирах по теннису, которые проводились в Москве. Не помню ни одного соревнования, на котором бы я не видел Лёву Маркова, сидевшего обычно на судейском стуле «на линии» и периодически издававшего зычный вопл: «Аут!» Встречал я там, конечно, и чету Купцовых.
Когда я стал ощущать себя на корте более или менее квалифицированно, уверенно бить справа и слева, Алексей не раз приглашал меня поиграть на открытых и закрытых кортах в Лефортово. Играли мы только в 4 руки: я в паре с Лёшей, а напротив нас микст – Лёва и Люся, жена Алексея. Не буду описывать все перипетии этих игр или их чисто спортивные характеристики: кто как бил (о не берущихся или коварных подкрутках и подрезках Лёвы я уже упоминал), кто как бегал или не бегал (понятно, кто).
Не могу не прокомментировать лишь регулярно повторявшееся зажуливание, которое у нас с Алексеем вызывало только улыбки. Если мяч от наших ударов попадал в линию и даже в их площадку, но не дальше 2-3 см от линии, то Лёва непременно, автоматически, отработанным судейским голосом издавал вопл: «Аут». За длительное время общения с Лёвой на одной стороне корта Люся достигла почти таких же высот в аберрации зрения, как и Лёва. Почти синхронно с Лёвой в этих ситуациях она, не менее громко, вскрикивала: «Аут!» Если мяч от их ударов попадал в аут на нашей стороне, но не далее тех же 2-3 см от линии, то Лёва (со стопроцентной вероятностью) подвергал оспариванию наше указание на аут. Он, с максимально возможной для него скоростью, спешил к сетке и через неё поднимал указующий перст на спорное место. Вся его поза и выражение лица демонстрировали его абсолютную убеждённость в своей правоте и крайнее возмущение нашей трактовкой попадания мяча в аут. С его носа с частотой примерно 0.5 Гц падали крупные капли пота, мокрые пряди волос беспорядочно застилали лоб. Устраивать спорное обсуждение было и бессмысленно, и бесполезно. Если мяч падал на нашу сторону, и была наша подача, то мы просто засчитывали очки в свою пользу и становились на линию подачи. Во всех остальных случаях спорные очки безапелляционно засчитывались Лёвой и Люсей в их пользу. Уже после игры, после душа, когда мы, попив водички, шутливо пытались укорять Лёву в отжиливании проигранных ими очков, он, не в качестве оправдания, а в качестве констатации (для нашего просвещения, на будущее), излагал философско-прагматическую сентенцию:
- Я столько времени провёл на корте с ракеткой и столько раз отсидел на вышке и судейских стульях «на линии», что навсегда усвоил сермяжную истину тенниса: только один спорный мяч, засчитанный в твою пользу, иногда помогает выиграть не только первенство Москвы, но даже Уимблдон или Ролан Гаррос.
Лёва всегда и везде оставался Игроком и иногда мог позволить себе удовольствие: сыграть фарс. Боб Овчаров любил рассказывать об одном таком эпизоде. Когда они спустились с гор и попали в посёлок Бета на Чёрном море, то, конечно, не могли не заглянуть на местные корты. На этих кортах в то время с ракетками в руках, как угорелые, чтобы «подсушиться», носились накачанные члены сборной СССР по современному пятиборью (бег, плавание, фехтование…).
Понаблюдав минут 10 за их беготнёй, Лёва обратился с предложением: можно ли поиграть с кем-то из них. Поджарые пятиборцы окинули взглядом грузное чудище, скатившееся с гор: «зело обло, озорно и лаяй» (его внешний облик в аналогичной ситуации достаточно детально описан Бобом Овчаровым), - и уничижительно отреагировали на его ну совсем беспардонное, даже наглое предложение. Во время перерыва в их беготне Лёва вышел на корт и показал, что, вопреки своему обшарпанному виду, с техникой аристократического вида спорта он знаком не понаслышке. После непродолжительных переговоров с язвительным подтекстом (Это же игра! В психологию!) Лев дал чемпиону Союза в пятиборье Ивану Дерюгину фору в 30 очков в каждом гейме.
А потом, а потом… Лёва вышел на корт и, как носорог, с такой же грацией в движениях, с такой же неуступчивостью к сопернику, с такой неукротимостью в стремлении перемочь, в двух сетах «вынес» безукоризненно накачанного и быстроногого атлета. К нашему вящему удовольствию, Лёва выдал ему почти полную «сушку»: 6:0 и 6:1. Встречают по одёжке, а…
Миша. После окончания академии мы все встречались на юбилейных встречах курса. И совершенно неожиданно я дважды встречался с Лёвой в Москве, куда приезжал «по делам».
Одна наша встреча произошла летом 1962 г. в теннисном городке стадиона в Лужниках. Я тогда был в Москве и пришёл посмотреть на Галину Бакшееву, только что ставшую чемпионкой Уимблдона среди девушек. Я шёл вдоль длинного ряда кортов и, в надежде увидеть искомую Галину, озирался по сторонам – об информации для зрителей тогда никто не думал. Вдруг на судейской вышке еще пустовавшего корта я увидел Лёву, который заполнял протокол. Как оказалось, он готовился обслуживать матч двух известных в то время теннисистов. Мы обменялись приветствиями, я расспросил его о местонахождении корта, на котором проходила интересовавшая меня игра, и мы распрощались, попросив передать приветы всем нашим знакомым. Теннис Бакшеевой меня разочаровал, но на корте она вела себя не по уровню своей игры, не как спортсменка, всю себя отдающая игре, а как капризная прима-балерина.
Другая встреча в Москве с Лёвой случилась в конце 70 годов. Я на своём жигулёнке, вместе с женой и детьми приехал в Москву. Перед тем как нагрянуть к нашим друзьям, мы решили заглянуть в Универсам на Фестивальной улице. Автомобильная стоянка была забита машинами, но вдруг недалеко от меня одно место освободилось. Пока я 3-4 секунды размышлял, как мне заехать (передом или задом), какой‑то нахальный горбатый Запорожец юркнул на это свободное место. Конечно, сидя за своим рулем, я стал ругать этого нахала, не очень стесняясь в выражениях. Но, внимательно приглядевшись, почти сразу в этом ловкаче узнал Лёву Маркова. Я вылез из своей машины и направился к Запорожцу. Поначалу Лёва не признал меня (возможно, из-за своих коленок, закрывавших ему часть доступного обзора). Он открыл дверцу и стал грузно перемещать свое габаритное и полновесное тело наружу, внимательно прислушиваясь к моей преувеличенно сердитой брани. Когда он вылез из машины полностью и встал на обе ноги, моя жена с ужасом закричала: «Не связывайся ты с этим медведем! Он тебя сейчас разорвёт!» Через несколько мгновений, к своему крайнему удивлению, она увидела, что мы обнимаемся, Вернее, Лёва меня обнял, а я только радостно улыбался. Ещё бы, такая встреча!
- Ну, Марков, нахал же ты, чуть не подрезал мне нос!
- А ты не разевай «коробочку», ты в Москве, а не в своём Иваново…
- Скажи, Лёва, а если бы ты увидел, что за рулём сижу я, ты бы тоже нырнул на место, куда я намылился заехать?
- В Москве не разглядывают водителей. Есть свободное место, значит, нужно опередить других и нырнуть туда, пока другие разевают варежки. Учти на будущее, всем, а я такой же, как все, безразлично, кто сидит за рулём – ты или твой дружок Буртазян.
Юра. После начала перестройки для всех нас наступили известно, какие времена. Лично я лет на шесть-семь ушёл в «глубокое подполье» и, кроме рукописи своей книги, практически ничем другим заниматься не мог. Озарения в собственной черепушке, вспыхивавшие при изучении явных глупостей и преднамеренных подтасовок «гениальных теоретиков» (мистиков и мифологов, которые были удостоены Нобелевских премий за «безумные идеи»), мелькали наглядными структурами и воображаемыми конфигурациями. Затухание этого мельтешения по экспоненте выполнялось только посредством долговременных посиделок для бумагомарания, от которых ныли руки и ноги. Поставив промежуточную точку, я решил перевести дух и попытаться опубликовать свой опус. Сначала я обратился к специалистам, профессионалам, «корифеям». Но с их стороны последовала для меня вполне ожидаемая реакция: «Да кто Вы такой! С дилетантами с улицы беседовать о чём-либо у нас нет ни времени, ни желания. Мы занимаемся самыми важными проблемами фундаментальной науки, и вникать в Ваши … (подразумевается: бредни) нам недосуг». Наступил 1994 год. Я обратился по поводу издания книги к ряду известных мне издательств. И получил жесткий и категоричный отлуп: «Издание денежек стоит! И немалых».
Да плевать я на вас всех хотел! И в этот момент моего состояния с плевком на языке Алексей Купцов подсказал мне: «Джеки, поговори с Лёвой. Он – классный редактор, и много работал с разными авторами». К тому времени я уже написал и издал несколько учебных пособий, а в Энергоиздате, тиражом почти 100 тысяч, вышел наш учебник. Так, что навыки в издании книг у меня были, и особого трепета перед этим процессом я не испытывал. Но вот загогулина.
Между содержанием учебных пособий, в которых нет никакой научной новизны (изложение согласно обкатанной программе), и ниспровергающей отсебятиной в «моей» книге (пусть она будет доступной, достоверной и доказательной), как говорят в одном, сейчас забугорном городе, «две большие разницы». Не только содержание, не только смысл, но и сам стиль книги как‑то спонтанно получился «моим».
Мне нужно было какое-то постороннее, отстранённое мнение о тексте рукописи, и скорее не «мнение», а впечатление поднаторевшего в этом деле критикана.
Я созвонился с Лёвой, приехал к нему в Чертаново, поднялся на его этаж и позвонил. Дверь мне открыла Ира: «Подожди, Лёва, сейчас выйдет». Через минуту он вышел с мокрой головой и попросил: «Ира, собери нам чего-нибудь. За встречу!» Минут двадцать мы побеседовали с Лёвой. Он оставил для прочтения и изучения текст первых трёх глав моей книги (страниц 40-50), а я попросил его, чтобы он возможно более жестко «придирался» к каждой букве в этом тексте. Ира пригласила нас к столу, и за огурчиками-помидорчиками Лёва, с присущей ему выразительностью, поведал ей о некоторых наших академических моментах. Меня поразило то, что он вспомнил при мне не свои игры в теннис со знаменитостями, не другие свои многочисленные и разнообразные похождения и происшествия. С искренним воодушевлением, увлеченно он рассказывал Ире, как мы играли в баскетбол, какая у нас была дружная, необычная по составу и внешнему виду команда. Как его «разбирало» от Чиста, который не только толкался острыми локтями, но и громко «дышал луком» в самое ухо. Как он противостоял «Глыбе» (полковник 2 факультета, капитан сборной академии и хороший знакомый Льва) под кольцом, когда тот, как бульдозер, напирал на него своим животом. Он вспоминал некоторые игровые эпизоды с Толей Егоровым, Алексеем Купцовым, Мишей Мировским, о которых я почти позабыл. Душа игрока не закоснела. Годы «нужной работы» в памяти затерлись, потускнели, а «невозможные» превратности в играх и через сорок лет у Лёвы сверкали нюансами и возбуждали приятное настроение.
Дней через 20-25 я приехал к Лёве поговорить о его «впечатлении» о моем тексте. Ира спросила нас, сколько времени мы будем беседовать, а Лёва ответил, что минут 30-40. Мы с ним проспорили часа два с половиной с десятиминутным перерывом «на кофе». Мы сели за низкий столик, Лёва положил на него стопку листов рукописи и взял в руки огрызок карандаша. Это был именно огрызок толстого карандаша, длиной 3-4 сантиметра, который Лёва держал самыми кончиками трёх пальцев. Я думал, что хорошо знаю Лёву. Я предполагал, что Лёва отнесётся к моей просьбе ответственно, не спустя рукава. Но той въедливости, которую он проявил при анализе моих словесных конструкций, той дотошности, с которой он аргументировал свои претензии к каждому абзацу на каждом листе, – мог ли я ожидать такое? Конечно, я оспаривал его, на мой первый взгляд, многие «придирки». Рукопись-то была моя, выстраданная и перечитанная вдоль и поперёк. Иногда мы так повышали голос, что Ира открывала дверь в нашу комнату и вопросительно оглядывала нас. В итоге я сказал Лёве, что внимательно подумаю над всеми его замечаниями и приму окончательное «авторское» решение. Я-то уже знал, что любой редактор, в силу свой профессии, считает себя, если не компетентнее, то, по крайней мере, не глупее любого автора. Когда мы переместились за стол с тарелками и вилками, Лёва срезал вершины своих придирок: «Честно говоря, не предполагал, что ты способен написать столь по‑своему. Такой стиль «в науке» не очень принят, но текст – вполне читабельный. А потому не сомневайся и дуй вперед!» Так что первым читателем рукописи о моих изысканиях и ниспровержениях стал Лёва.
Последний раз я встретился с Лёвой в день его рождения, когда он пригласил нас с Алексеем Купцовым. Собралась узкая, чисто семейная компания, вместе с другими родственниками был тогда и брат Лёвы, Молода.
Даже без вмешательства Иры Лёва спиртного практически не принимал. Было заметно, что он ещё больше погрузнел, но он крепился, был, как именинник, в центре внимания и больше всех рассказывал байки сам. Мы с Алексеем пожелали нашему столпу в совместных играх с более чем сорокалетним непрерывным стажем всего наилучшего. В первую очередь, бодрости, здоровья… Но по дороге к метро оба с печалью отметили, что чисто физически ему приходится очень нелегко.
Алексей сказал, что Ира очень опасается за состояние его здоровья, держит дома набор лекарств и всегда наготове к тому, чтобы вызвать к нему «Скорую помощь».
И вот горестное известие. Последнее прощание в ритуальном зале на Фрунзенской. Мои слова о нём, недосказанные ему при его жизни…
Миша. В конце ноября 1997 года с моим ивановским приятелем я возвращался из Сухуми. Поезд в Иваново отправлялся только поздним вечером, поэтому мы решили прогуляться по любимым московским местам. Для меня самым любимым был Петровский парк. В Москве уже лежал снег, и прохожие с некоторым удивлением обозревали наши только что загоравшие на южном солнышке лики, резко контрастировавшие с бледными москвичами. Я увлеченно вспоминал о прогулках по этим дорожкам, как вдруг услышал окрик: «Мировский!» Оглянувшись, я увидел Боба Овчарова, который сначала прошёл мимо, но, с некоторым запаздыванием, все-таки узнал меня. Мы дружески обнялись и стали расспрашивать друг друга о наших делах, детях-внуках, о друзьях-товарищах. При прощании – Боб спешил к себе в МАК – он вдруг сморщил лоб, помрачнел:
- Да, ты знаешь… и Лёва… Лёва Марков…
- Не может быть… Когда ?!
- Только что… Дней 10-12 назад.
Боб рассказал, что Лёва стал жаловаться на боли в сердце, и с большим трудом его уговорили показаться врачу. Лёва стал собираться в поликлинику, и – всё…
Обратного хода нет, но Лёва не может покинуть нас.
Наш big друг навсегда останется с нами…
Боб Овчаров, и не только он…
Боб – один из 76 наших однокурсников, «просто (или не просто?) один из …» и, по всем предпосылкам, лично мне не очень пристало писать о нём, высказываться о его, несомненно, выдающихся способностях, о его разносторонних увлечениях, о его достаточно необычной военной, профессиональной и научной карьере.
Мы учились в разных учебных отделениях; во время учёбы он жил дома, в «Москве», а я – в «казарме»; мы никогда вместе не играли ни в какой ball (кроме, если не изменяет память, целлулоидного шарика, колотя его ракетками с резиновыми накладками по столам в залах дипломного проектирования).
По выпуску из академии нас растыркали в разные «виды ВС», мы разбрелись по глухим гарнизонам на дальних задворках необозримой и необъятной, на удаление в тысячи километров друг от друга, и никогда не встречались ни на аэродромах, ни на полигонах. Да и после гарнизонных бдений – «для выполнения воинского долга и прирастания патриотизма» мы не встречались ни на научных конференциях, ни на защитах диссертаций. У каждого из нас были свои, не пересекавшиеся друг с другом военные, служебные, научные и «другие» (не только личные) пути-дорожки, закоулки, привязанности и, чего греха таить, «мелкие страстишки».
И всё-таки, и всё-таки… у меня осталось полное впечатление, иллюзорное и фактологически неверное, что за прошедшие пятьдесят с лишком лет я с ним общался не реже, чем даже с теми однокурсниками, с которыми служил в полку или работал на кафедре. Конечно, каждый из нас знал об основных деталях жизни друг друга: о воинской службе, научной карьере, семейных событиях… Конечно, в Москве мы достаточно регулярно встречались не только на курсовых саммитах по поводу текущих юбилеев, но и в более узком кругу: и «по некоторому поводу», и без оного. Всегда это были радостные, желанные и во всех отношениях приятные и тонизирующие встречи. Но эти чувства ожидаемой и приобретенной радости были вызваны «всеми» и обращены на «всех»: сколоченность курса никогда не была показухой или «мероприятием» для кого-то.
Единение всех, кто собрался в очередной раз, было подлинным, искренним и, на мой взгляд, если для некоторых – пафосно-приподнятым, то для многих других – подначивающе-генерирующим. Если не абсолютно всё, то очень многие подробности, нюансы о каждом из нас были всеобщим достоянием, иногда комментировались, а подчас и подвергались понятной интерпретации, вызванной ностальгией по уже безвозвратно ушедшему времени. Мы подходили к месту сбора, улыбались, вглядываясь в неизбежные изменения знакомых до печенок причёсок, лбов, взглядов, носов и щёк, обнимались, легонько прихлопывая друг друга по спине…
А, вот и Боб! Конечно, я всегда предварительно знал, кто придет на рандеву, но встреча именно с ним была для меня одной из самых жданных: «прибытие генератора положительных эмоций».
Возможно, моё ощущение вызвано чисто психологическими причинами и изъянами моей личности (неважно, глубоко скрытыми или явно проявляемыми). Возможно, что какие-то издержки моего сугубо внутреннего самоуничижения или, наоборот, побеги амбициозного самоутверждения как-то резонировали с его душевным настроем. Не знаю. Не очень плодотворно, скорее бессмысленно копаться в своей душе.
Но от себя никуда не уйдёшь.
…Не сговариваясь, мы встретились на печальной церемонии прощания с нашим знаменитым педагогом А.А. Красовским (увы, нагруженной скандальным, с душком нечистоплотной корысти обсуждением в mass media коллизий его гибели).
Мы все им гордились, законно и по справедливости восхищались и в меру своих наклонностей «подражали» или следовали ему в своей научной карьере. По‑русски ужасная и нелепо трагичная смерть академика при типично невероятных для генерала условиях его личной жизни в последние годы не очень настраивала на какие-либо обсуждения обстоятельств дикого происшествия. Мы постояли на лестнице основного корпуса альма-матер, обошли вокруг гроба в конференц-зале, на секунды задержавшись, чтобы в последний раз посмотреть на столь узнаваемое даже через десятки лет лицо. Молча мы вышли из проходной и посмотрели друг на друга. Боб предложил скинуться, но Виталий Палыч сдвинул брови: «Мы сообразим всё, что нужно, а вы нас подождите в парке». Вдвоем мы спустились в столь знакомый нам подвальчик напротив клуба академии (безхозного и ветшающего), где Палыч последовательно перечислил: батон хлеба, колбасы, сыра (того и другого – грамм по 300-400 и всё порезать)… –, словом, стандартный набор на четверых, заученный ещё с тех лет.
Неторопливо пройдя по нисколько не забытой дорожке, мы свернули в Петровский парк и тут же увидели: Гена Музалёв и Боб уже облюбовали свободную скамейку.
Помянув нашего великого учителя, мы, невольно, каждый по-своему, про себя, вспомнили и наши годы учёбы. Я посмотрел на Боба, сидящего в обрамлении свежей зелени кустарника и, как мне показалось, мы одновременно подумали: неужели прошло уже 50 лет, а ведь мелкие подробности того времени помнятся до сих пор…
На лагерных сборах, особенно после первого курса, всех нас постоянно «доставали» беспрерывные сдачи разных норм и зачётов: по стрельбе, по строевой, по уставам, по физкультуре… Одним из запомнившихся эпизодов была сдача норм по преодолению полосы с препятствиями. Вся длина «полосы» была больше 100 метров, видимо, метров 150: бегом метров 10 со старта, затем преодоление стенки (высотой 2 метра), после неё ползком по канаве под колючей проволокой (метров 10-15), затем бег по бревну и т.д. «Преодоление» всей этой изуверской последовательности проводилось в сапогах и полной солдатской форме.
Мало того, что «сдать полосу» нужно было всем без исключения, но нашему начальнику курса очень хотелось, чтобы зачётные результаты были максимально высокими: с минимальным числом троек. Понятно, что, даже при высокой общей спортивности курса, кто-то испытывал на «полосе», мягко говоря, большие затруднения.
Наш Б. Долгин в таких делах был «не промах», и в этом случае он договорился, что преподаватель, организующий зачет, с секундомером в руках «принимает время» на финише, в конце прямолинейной полосы, а на старте отмашку даёт ответственный («ну очень, очень-очень ответственный») командир отделения. Поскольку голь на выдумки хитра, то на первых же тренировочных прогонах на этой полосе была сформирована технология для выполнения целевой программы.
Были отобраны в каждом отделении «бросатели ног над стенкой» и те, кому это было «не с руки». А на зачетных преодолениях давалась отмашка на старте, «умелец» из другого отделения после старта лихо подбегал к стенке, с разбегу подпрыгивал и подтягивался наверху на выпрямленные руки, перегибался через стенку головой вниз, бросая ноги вверх через стенку, и, регулируя вертикальность полёта руками, приземлялся на ноги. Преодолев стенку и пробежав вперёд несколько метров, он падал в предварительно подготовленную ямку (с отводящей канавкой). После этого «эстафету» принимал тот, кто уже лежал у начала зачётной канавы: он начинал ползти под колючей проволокой, и далее бежал до конца полосы, где стоял преподаватель с секундомером.
Я описываю всё так подробно, потому что сам несколько раз исполнял роль прыгуна через стенку, а одним из тех, кто в это время готовился ползти под колючками, был Боб Овчаров. Конечно, в первом отделении были блестящие преодолеватели стенки: Толя Батенко, Гена Музалев и другие, – но все они, сами преодолев полосу, должны были стоять на финише, и, следовательно, могли только отвлекать внимание преподавателя оттого, что происходило на старте полосы, у стенки. Поэтому поддержка была возможна только из других отделений.
Уткнувшись в список, преподаватель усмотрел нескладуху: «Что-то через раз полёты над стенкой, как под копирку: когда все рохли успели так научиться?» Но отпетые физкультурники, потупив взоры, только переминались с ноги на ногу.
Естественно, что после успешного обхода и таких, чисто психологических преград состоялось эмоциональное обсуждение всех перипетий этого действа: самоирония, нарочитое восхваление: «Ну, зачем ты так стремительно вертел ногами над стенкой: так ведь и сапоги могли слететь по касательной, – а как тогда бежать дальше?»
На четвертом курсе Боб сделал научное открытие в инерциальной навигации (дезавуировал догмат о постоянстве шулеровского периода колебаний гироплатформы в инерциальной системе координат). Основные результаты его работы в течение года в соавторстве с нашими педагогами (генералом Боднером и полковником Козловым) были опубликованы в Известиях АН СССР. Для всех нас он никак не изменился, хотя его авторитет среди преподавателей факультета, конечно, поднялся, как мне казалось, до заоблачных высот. Сейчас я могу сочинять всё, что взбредёт в голову, не очень заботясь о степени правдоподобия прошедшему. Но в тот период во мне произошёл внутренний перелом в самооценке и своих способностей и возможностей.
Когда ежедневно встречаешься с «гением инерциальной навигации», который обсуждает лично с тобой какую-то конкретную научно-техническую проблему и искренне радуется, что мы не глупее «профи» и вместе в чем-то разобрались, то невольно и подспудно и самого себя начинаешь примерять к твоему другу-первопроходцу:
«Да мы сами не лыком шиты!»
После одного из экзаменов по кафедре Боднера (сдавало первое отделение) я подошёл к Бобу с расспросами по поводу того, кто что спрашивает, какие у экзаменаторов любимые дополнительные вопросы и, понятно, какие они хотят получить «любимые ответы». Наше отделение этот экзамен сдавало через два дня, а, как известно, причуды преподавателей гораздо устойчивее, чем прихоти погоды. Во время нашей беседы мимо нас по коридору проходил один из этих экзаменаторов М.С. Козлов. Почему-то он обратил на нас внимание, остановился и что-то сказал Бобу (точно не помню, но возможно, хотел высказать Бобу свое впечатление «о блестящей подготовке отделения к экзамену»). Посмотрев на меня, полковник усмехнулся: «Дрожите?» Я пожал плечами и промолчал (я не был ни Бабичем, ни Савенковым, ни Овчаровым, чтобы вот так запросто пикироваться с самим Михалом Степанычем, да еще перед экзаменом).
Если бы я не попал на экзамене именно к М.С., я бы, возможно, не вспомнил об его усмешливом вопросе в коридоре. После ответов на вопросы билета М.С. еще около часа изучал степень моей подготовки и испытывал на прочность мою выдержку и стойкость «оловянного солдатика». Мы разобрали устройство и принцип действия силового, а затем индикаторного сельсинов, сходство и отличие в их конструкции, схеме соединения, я потыкал карандашом на те узлы в конструкции, о которых говорил, написал уравнения для результирующего вектора магнитного поля создаваемого сельсином-приёмником при отклонении поворотной части сельсина-датчика...
Но этого было мало. М.С. заставил меня рассказать всё, что «я знал о принципе действия и устройстве» магнесина. Он молча выслушал мой ответ и в конце спросил: «Где Вы это прочитали?» Конечно, я не был ни Олегом, ни Максом, ни Бобом, но кое-чего я уже у них поднабрался.
Я задумчиво посмотрел на М.С. и сказал, что, видимо, я не очень детально пояснил последовательность физических процессов: при наличии напряжений, переменных во времени и смещенных по фазе, токи в соответствующих обмотках магнесина-приемника создают результирующий вектор магнитных полей, который, следовательно, индуцирует переменные э.д.с. в магнито-связанных катушках магнесина, а, в силу этого, токи, возникающие в этих обмотках, по правилу Ленца создают свое магнитное поле, направленное так, чтобы поддержать неизменным первичное магнитное…
Заметив, что М.С. уже «не врубается» (я ведь у него на экзамене был не первый и не последний), я участливо спросил: «Продолжать дальше?» Как мне показалось, со вздохом облегчения (на кой чёрт выслушивать эту утомляющую причинно-дополнительную отсебятину, нанизанную на научно‑логическую складность?) он сказал мне: «Свободны…» (Я потом перепроверил себя: нет, всё я говорил по делу, без дураков.)
Почти не сомневаюсь, что пятёрка, которую мне, в конце концов, поставил М.С., в какой-то степени была навеяна воспоминанием о его встрече в коридоре с Овчаровым в моем присутствии. Впрочем, не исключена вероятность того, что на него подействовала невозмутимость слушателя, без тени сомнения излагавшего принцип действия хорошо ему известных устройств не совсем так, как это было написано в учебном пособии: «Если уж эти перетёпы, «ничтоже сумняшеся», умудрились уличить Шулера (самого Шулера!), то магнесин-то для них – не загвоздка».
На пятом курсе мне пришлось разбираться с математической моделью систем радионавигации: опорные радиостанции, система координат с учётом кривизны земной поверхности и высоты полёта летательного аппарата, математический аппарат для вычисления текущих координат этого аппарата по измеренным параметрам радионавигационной системы и т.п. После нескольких дней въедливого изучения журнального материала я вдруг понял, что там допущена ошибка. Это сейчас я хорошо понимаю, что «ашыпки и ачипядки» в научных статьях не криминал и не повод для злопыхательства, а неизбежный спутник научных публикаций: не всякий редактор понимает содержание работы, а автор не всегда может исправить конечный вариант, предназначенный для печати. Для самопроверки я обратился к Бобу и, возможно более подробно, пересказал принцип функционирования системы, суть математических символов в описывающих её уравнениях и, самое главное, обнаруженную мной ошибку.
В конце моего монолога Боб, в присущей ему манере одобрения, сказал: «Джеки! Мне доставило удовольствие выслушать столь содержательное и исчерпывающее разъяснение по поводу всей этой радионавигационной х‑ни. Сомнений нет: ты прав».
Через некоторое время по той же самой проблеме у меня была беседа с моим руководителем по диплому Кириленко. Он усомнился в достаточности моей эрудиции для «выявления и исправления» ошибок в научных журналах, но сказать что-либо более определенное по поводу моей «правоты или неправоты» он оказался не в состоянии.
Но когда я сказал ему, что «все это мы обсудили с Овчаровым и пришли к единому мнению о том, что в публикации допущена ошибка», то Кириленко тут же сменил тон. Он «дал добро» на дальнейшую проработку темы и в последующем меня никогда не перепроверял: если уж Овчаров того же мнения...
Не нужно подробно разжёвывать – сколь значимы и важны для самоутверждения провинциала такие моменты в ключевой период его жизни.
Кроме статуса незалежной индивидуальности Боб для меня был еще и очень важным эмоционально-психологическим мостиком к очень непростой и влиятельной группе на нашем курсе. Конечно, я имею в виду Олега Бабича и Максима Савенкова.
Несомненно, все трое выделялись даже на нашем далеко не сером фоне в качестве непререкаемых истолкователей учебных дисциплин. Нам на курсе было очевидно, что все трое не просто круглые отличники, но и прямые кандидаты в научные светила, причём в очень недалёком будущем. Наверно, здесь не только играла роль их целеустремлённость, несомненное трудолюбие: многие из нас занимались много и усидчиво. Их незаурядность и одарённость проявились сразу и ярко.
Даже будущие академики Алик Айламазян и Костя Капелько, вкупе с будущими «просто» доцентами и кандидатами технических и других наук Г. Музалёвым, Г. Михиным, А. Батенко, Л. Макаровым и другими слушателями первого отделения, не имели той степени признания их талантливости, того уровня их выделяемости на общем фоне, какой они имели не только у педагогов.
И не только у педагогов, но и, что не менее показательно, среди мозговитых «зубастиков» курса. Когда к Бобу пришли интервьюеры из ярославского телевидения и спросили его как однокурсника почётного гражданина города Переславля‑Залесского: «Когда во время учёбы проявилась гениальность академика Айламазяна?», – то, естественно, он даже опешил. Никто из нас с первого месяца учёбы не считал себя недотёпой и, по существу, не был «не совсем тупым» (переставив порядок слов: был «далеко не тупым»), но гениальными априори в те годы признавались, в первую очередь, они. И выше них так никто и не встал (хотя не исключено, что, в силу каких-то причин или обстоятельств, не очень-то и хотел).
Но, что, если не более важно, то в дополнение очень существенно, все трое проявили себя в качестве исключительно метких и колких комментаторов ляпов, проколов, недоразумений и любых других несуразиц в жизни нашего курса, а также в деяниях и словах постоянных индукторов в нашем сборище тем и ситуаций для их ироничного полоскания. Кроме перманентных тем для «предусмотренных распорядком дня», незлобливых и почти банальных комментариев по поводу «перенедобритости Айламазяна», «недоперечищенности сапог или бритвенных стрелок на брюках Телкова» или, наоборот, «помятости и не только шинели Маркова», почти ежедневно то Олег, то Максим находили повод для нескончаемой череды усмешливых розыгрышей. Благо никто на это серьёзно не обижался и не реагировал (возможно, кроме Телкова).
Однажды во время перерыва между лекциями ко мне подошёл Олег в сопровождении своих друзей и с озабоченной интонацией в голосе спросил: «Джеки, ты, случайно, не знаешь, кто стал олимпийским чемпионом в беге на 100 метров на Олимпиаде в 1952 году?» Не подозревая никакого подвоха, я, с не менее серьёзным выражением на лице (а к кому же ещё на курсе обратиться с таким, не самым лёгким в спортивной статистике вопросом, чтобы получить исчерпывающий ответ, как не ко мне), с излишней подробностью ответствовал: «На Олимпиаде в Хельсинки, где впервые приняли участие и наши спортсмены, в беге на 100 метров победил до того мало известный американец Ремиджино. Но он не смог побить олимпийский рекорд, установленный Джесси Оуэнсом ещё в 1936 году на Олимпиаде в Берлине».
Как по команде, все окружавшие Олега подстрекатели прыснули от смеха. Положив мне руку на плечо, Олег, с улыбкой удовлетворения от удачно проведенного эксперимента, сказал: «Джеки, ты не подвёл меня! Ты не подкачал и подтвердил мою полную уверенность в твоей эрудиции в крайне важной для всех нас области знаний. Ты продемонстрировал этим злопыхателям, что все их сомнения в том, что ты не сможешь дать ответ на этот, для тебя ну просто детский вопрос, абсолютно беспочвенны».
Как оказалось, Олег заключил пари: смогу или не смогу я дать правильный ответ на этот или подобный этому вопрос. Отсмеявшись, Максим, компенсируя возможное недопонимание, дополнил Олега: «Нашей компетенции хватило только на то, чтобы задать вопрос без явных ошибок, так, чтобы не выглядеть профанами».
Конечно, для меня не стало прозрением или откровением, что имя победителя на стометровке – всем им «до лампочки». Просто подкол. Но, чтобы обижаться? Да упаси, боже! Мы все вместе посмеялись, и для всех нас это были не только минуты разрядки, но и проверка на прочность «чувства локтя».
На практике в Кирове вектор такого рода добросердечных подначек был направлен на Костю Капелько. Он познакомился с местной девушкой, которая была, как минимум, на полголовы выше, чем он. Поэтому на вечерние встречи с ней при свете заходящего на север солнца (в Кирове был период белых ночей) Костю собирали и «морально готовили» все, кому было не лень что-нибудь сочинить и высказать. По всем комнатам искали «боты с самыми высокими каблуками» и с максимально допускаемым набором стелек; Косте давали советы ходить «на пуантах» и взбивать кок надо лбом возможно выше. На «заряд» и поднятие Костиного тонуса энтузиазма не жалели.
Еще одной выделяющейся стороной этой троицы, о которой знали все, были их взаимоотношения с нашими знаменитыми педагогами. Всем было известно, что «Гаврила» (Г.О. Фридлендер) не просто благоволит к Олегу Бабичу, как к «любимому ученику». На курсе было устоявшееся мнение, что проявляемая симпатия – это не только оценка труда и результирующей компетенции Олега по прецессиям, нутациям и прочим вывертам и извёрнутостям на перпендикулярных осях подвеса гироскопов.
Это ещё и «отметина от бога» – по складу характера, по интеллигентности, по общей эрудиции, по раскованности при внешней выдержанности и внутренней воспитанности. Вообще-то внутренняя готовность и умение стать на одну ногу либо со своими учителями, которые намного старше тебя, либо с твоими подопечными по науке, которые намного младше тебя, не даётся никакими «упражнениями». Наверное, всё‑таки – это от склада характера, врождённое, уникальное и неповторимое.
Для провинциала Москва – это не просто больше или шире, чем Москва для москвича. Это абсолютно недоступное для понимания коренного москвича восприятие огромного конгломерата улиц, площадей, зданий... Это прищур (или, наоборот, распахнутые и округлившиеся от изумления души глаза) и взгляд с кочки «малой Родины».
И натяг изнутри: как втиснуться в кипучую круговерть многомиллионного мегаполиса и не затеряться, остаться самим собой. Ведь у тебя уже есть свой, пусть небольшой жизненный опыт и свой город или городок для любви и сравнения, сопоставления с Москвой. Первые полтора-два года учёбы для нас, не москвичей, 30 корпус стал, если не «малой Родиной», то естественным лежбищем.
Здесь мы не только учились, не только питались, не только спали, но и в тесноте наших двухспалок притирались друг к другу, приучались к взаимному уважению, толерантности, которые сами собой переросли во взаимную симпатию, а потом и в крепкую мужскую дружбу. А стадион «Динамо», Петровский парк, другие близлежащие окрестности были только объектами для нацеленного и стиснутого временем набега. Они давали возможность для кратковременной смены обстановки в беспрерывной череде дней, заполненных писаниной конспектов, вгрызанием в описания, объяснения и обоснования, выполнением расчётов и проверкой их правильности, черчением, вперемежку с лыжными и беговыми кроссами, строевой подготовкой и другой предусмотренной учебным расписанием обязаловкой.
Лишь после третьего курса я (да и мои друзья из нашей общаги) стали «без боязни вляпаться» регулярно наведываться в «город», который становился нам доступнее и роднее. Кроме музеев, театров, кинотеатров, парков, клубов, концертных залов и некоторых, хорошо изученных злачных мест нам стали понятнее, ближе и наши однокурсники – москвичи. Да и мы стали для них своими.
В разное время я, в компании с другими, неоднократно был в гостях у Макса, на Тишинке. У него была возможность пригласить (благо, ехать недалеко) на пульку, а заодно и сопроводить её некоторым ритуалом с предварительным заходом в продовольственный магазин. Максим был и навсегда для меня остался «хорошо знакомым сфинксом». Я много раз ловил себя на мысли, что, если в каком-то конкретном случае Макс сформулировал для себя некоторое мнение, то, несмотря на моё давнее знакомство с ним, вопреки тому, что сиюминутная ситуация не имеет никакой значимой подоплёки, это мнение мне не угадать и не понять. И, тем не менее, несмотря на всю его неразгаданность, Макс очень компанейский человек. Своей сдержанной усмешкой, выдержкой он цементирует разнозаточенные психологические выступы, а своей выдающейся эрудицией выравнивает утёсы начитанности и демпфирует любые признаки пойти вразнос процессу запудривания мозгов при наличии разночтений. Поскольку он высказывается не так часто и всегда не попусту, то проигнорировать его мнение отваживался далеко не каждый. После поступления в адъюнктуру у меня были периоды, когда я часто посещал библиотеку им. Ленина.
Из всех однокурсников там я встречался только с одним. Это был Макс. Не сомневаюсь, что, если бы соорудить игру «Что? Как? Почему?» с научно‑технической направленностью, то Макс был бы в первой обойме самых удачливых игроков.
У Максима есть одна выдающаяся черта: он выработал бесподобное умение приспосабливаться к любым, самым изуверским кульбитам в социально-общественной жизни. Как мне представляется, он устойчив к любым переменам, «структурно инвариантен к внешним воздействиям» и выработал уникальные навыки адаптации к изменениям самой конфигурации общественных отношений.
Это не значит, что всё ему, как с гуся вода. Нет, наверняка он тоже переживает.
Но вот попусту кипятиться и стравливать давление свистком паровоза Максим не будет. Он логичен, рационален, сам себе хозяин и не позволяет себе свои мнимые или возможные неудачи или промахи «свалить на кого-то или на что-то».
Бывал я в гостях и у Олега Бабича, на Таганке. Запомнился один из майских праздников: был очень тёплый весенний день, не менее тёплое настроение царило за длинным столом (бесшабашность молодости игнорирует неизбежные заботы или печали). Гостей у Олега в тот раз было много, и все пели модный хит о «Таганке». Олег выделялся не только в учёбе и науках и не только у нас на курсе.
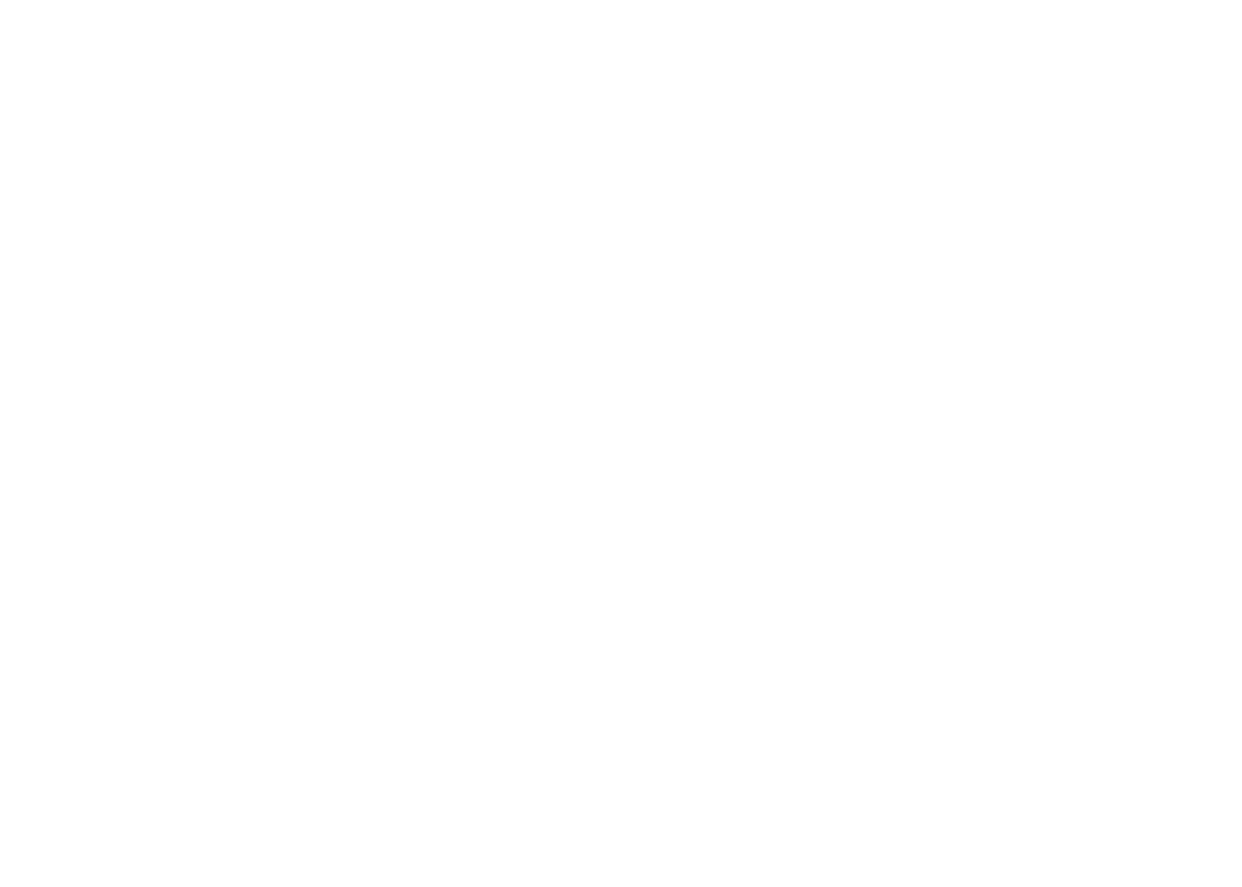
Они должны были не только адекватно воспринимать то, на что обращал внимание экскурсовод, но и выражать те чувства, на которые она рассчитывала в своих эмоциональных пассажах. Это сейчас полно всевозможных альбомов по живописи, скульптуре и самых известных музеев, и некоторых направлений (классицизм, импрессионизм, абстракционизм…), и отдельных художников.
К примеру, сейчас можно запросто купить двухтомник Джона Ревалда об истории импрессионизма, все семь «Жизней» Анри Перюшшо с достаточно информативным набором иллюстраций, «Жажду жизни» Ирвина Стоуна и спроецировать описанные в них факты и события на их интерпретацию в «Творчестве» Эмиля Золя. (И вместе с рецензентами и знатоками порассуждать: где у Золя от Сезанна, а где – от Э. Манэ, при этом не путая его с К. Монэ.) А в то время… Лично я до Эрмитажа из жизнеописаний «не наших» художников держал в руках только литературную биографию Рембрандта, да «Гойю» Фейхтвангера. А вот по ответной реакции Олега казалось, что его эрудиция, по крайней мере, не меньше, чем у нашего экскурсовода, профессионала Эрмитажа.
Но не только всё это. Экскурсовода возбуждает обстановка, когда она в центре внимания заезжей ватаги «персон своего инстинктивного влечения». Не мудрено, что такой выбор бравых молодцев, мог сбить с понтолыку и более устойчивую или более подготовленную к неожиданностям служительницу муз.
Но в Эрмитаже всё закончилось к всеобщему удовлетворению. На всю оставшуюся жизнь мы уже могли считать себя, по крайней мере, не просто случайными посетителями Эрмитажа, забежавшими туда на полчаса, чтобы выпить кофе в буфете и съесть бутерброд с колбасой (или сыром).
После академии в Татьянин день мне несколько раз посчастливилось в узкой компании Алекса Купцова, Олега, Макса и Боба не торопясь побродить по некоторым московским музеям. Я еще раз убедился, что в моём, крайне субъективном восприятии Олег даже сейчас, через десятки лет, представляется мне столичным эстетом с сибаритскими наклонностями и замашками сноба.
И это не порицание и, тем более, не укор. Я так вижу. Я его таким ценю, уважаю. Именно за это я горжусь дружбой с ним. И в этот имидж свою лепту внесли многие эпизоды. Не только те, о которых я упомянул, но и, к примеру, организованная им встреча в клубе академии с ученицами балетной школы, его близость и долгая дружба с доктором академии Виноградовым или, наоборот, молниеносная длительность симпатии к блондинке Джульетте (для напоминания, секретарша на факультете).
Как-то в Музее архитектуры была выставка, посвящённая Ф. Шехтелю. А мне практически с первых месяцев знакомства с Москвой пришлось зацепиться взглядом за некоторые его здания, о создателе которых я в то время и не подозревал. Моя тётка жила на Кропоткинской, и я по дороге к ней от станции метро «Парк культуры» по Кропоткинскому переулку регулярно проходил туда и обратно мимо одноэтажного особняка с огромным окном на фасаде, отгороженного явно вычурной оградой и занятого посольством. У этой ограды, имевшей резко несимметричный рисунок, я всегда замедлял шаг и шел с повёрнутой в сторону огромного окна головой.
Другим зданием, сразу попавшим в мой образный лик Москвы, стал Ярославский вокзал с его асимметричными куполами в псевдорусском стиле. Конечно, не осталась забытой витиеватая лестница в музее Горького. А после поступления в адъюнктуру Дзержинки я, проходя на службу от Лубянки по бульвару до Китай-города, невольно вглядывался в явно не советскую пятиэтажку в квартале ЦК КПСС.
Можно перечислять ещё и ещё. Когда мне удалось купить книжку Е. Кириченко о Ф. Шехтеле, я уже не удивился, что много (более, чем две трети) его домов в Москве мне знакомы: по той или иной причине я уже обратил на них внимание. А в музее на выставке Шехтеля в Музее архитектуры я встретил З.В. Кирсанову, свою коллегу по кафедре физики в МГОУ.
Мы с ней разговорились о творчестве Шехтеля и, в конце концов, разговор свёлся к Олегу Бабичу. Мир тесен. Она была замужем за генералом, начальником кафедры Жуковки, и поведала мне, что они очень хорошо знакомы с Олегом и его семьей.
Она рассказала мне, что в их академической компании Олег является инициатором и организатором регулярных весенних походов по знаменательным местам Подмосковья. Причём Олег предварительно изучает маршруты и всегда прекрасно осведомлён обо всех его достопримечательностях.
Так что я не оригинален, полагая, что Олег является незаурядным эрудитом в области искусства и эстетики. К тому же он, обладая энциклопедическими знаниями в этой элитарной, рафинированно изысканной сфере культуры, имеет своё, личное мнение по любой проблеме, свою личную оценку любых произведений самых противоречивых направлений в искусстве и самых несопоставимых творцов.
Он никогда не страдал догматизмом в своих пристрастиях, его оценки естественны и внутренне пережиты, и уж никак не навязаны никаким несобственным мнением, сколь бы ни было оно общепринятым, авторитетным или «профессиональным»: начётничество для него было противоестественно.
Иногда он не терпит только одного: оголтелого невежества. И, хотя по существу я с ним солидарен, но сам на радикальные действия, скажу прямо, отважусь не всегда.
Например, такой эпизод, уже из педагогической стези Олега. Своему дипломнику, который некстати, аляповато продемонстрировал свои явные пробелы в знакомстве с русской беллетристикой, Олег в список литературы для дипломного проектирования вписал А. Куприна (боюсь ошибиться: то ли «Гранатовый браслет», то ли «Гамбринус»). Да и не в самом названии повести – соль на раны души бедного выпускника академии.
Не скрою, что, возможно, на утрированную прямоту откровений меня сподвигли некоторые встречи и беседы с моими отделенцами Витей Туваевым и Сережей Воробцовым, которые достаточно долгое время работали в академии. Оба они были коллегами и, по штатному расписанию, «подчинёнными по научной линии» Олега.
За время учёбы в одном отделении и жизни с ними в одном, крайне стеснённом помещении я, конечно, в полной мере получил представление о том, что можно ожидать и от Вити, и от Серёжи. Несмотря на их внешне полную несопоставимость, у них обоих уже в то далёкое время проявилась одна черта, парадоксально похожая своей направленностью исключительно внутрь себя: своеобразный эгоцентризм (мое мнение – для меня превыше всего). У каждого из них был свой, жесткий, никак и никем не обсуждаемый и не корректируемый социально-нравственный стержень (никто мне – не указ). У обоих была своя точка зрения и оценка всего: науки, общества, карьеры…
Естественно, что в атмосфере крайне амбициозной, по определению, конкуренции научного сообщества на кафедре (в научно‑исследовательской лаборатории при кафедре) какие-то трения между Олегом и его «самодостаточными и неуправляемыми подчинёнными» Туваевым и Воробцовым могли иметь место. Но, учитывая банальный посыл («Who есть кто?»), скрытые или явно проявляемые конфликты между ними были неизбежны. Жизнь есть жизнь. Она такова, какая она есть, т.е. такая, каковы мы сами.
Нам вручили дипломы об окончании академии, все мы получили предписания об убытии к месту дальнейшей службы. Я проводил почти всех, кто не остался в Москве, а на следующее утро и я, отгуляв положенный за год отпуск, должен был улетать в свой полк, в Забайкалье. Лично я с Москвой в тот день расставался насовсем, навсегда, безвозвратно. Без надрыва, без стенаний, без упрёков в чей‑то адрес – лимита свой удел знает изначально и никаких иллюзий не питает. Понятно, что в последнем акте прощания: «прошвырнуться по центру» – я был не один. Мы брели по улице Горького и мозговали: где бы можно посидеть в последний раз. Учитывая финансовое положение в конце отпуска, решение этой заковыки не казалось совсем тривиальным.
Был по‑весеннему тёплый день в конце марта с ярко-голубым, безоблачным небом. Снег растаял, тротуары были сухими, а во дворах стояли лужи, которые отражали солнечные блики на стены домов. Но в душе было не то что муторно, вернее – в миноре: в жизни крутой излом. Не посидеть где-нибудь было нельзя. И, вдруг – дверь в полуподвал и вывеска: «Комиссионный магазин». Я торможу ребят и по лесенке спускаюсь в комиссионку. У прилавка снимаю с себя пальто (а на фига мне оно в Забайкалье – только лишняя обуза) и отдаю его приёмщику. Но тот говорит, что «с плеча» они вещи не берут. Я выхожу на улицу, отдаю пальто Бобу, а он «на законных основаниях» сдает его приемщику. Блестящее решение сразу двух задач. И в них обеих основную роль сыграл Боб. Во‑первых, я походя закрыл проблему: как без ущерба избавиться от ненужного пальто (его уже на мне нет!). Во‑вторых, мы сразу ликвидировали нехватку в рублях, а во время последнего захода в ресторацию я получил напутствие от Боба:
«Джеки, да провалиться мне на этом месте, если мы больше не встретимся вот здесь или где-нибудь рядом, и не один раз!»
В один из дней гарнизонной жизни, удручающе неотличимый от сотен таких же единообразных суток полковой службы, я вдруг по почте получаю приглашение на заседание Учёного совета: «защита диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук В.Е. Овчаровым». Я держу в руках маленький листок, в который раз перечитываю незамысловатый текст, пока, наконец, до меня не доходит подспудное предназначение этого приглашения. Боб не только сообщает мне о том, что он первым (возможно, одновременно с Айламазяном) из нас преодолевает начальную ступень в науке: как раз в этой защите не было ничего «из рук вон выходящего». Наоборот, это был ожидаемый и, скорее, тривиально-рутинный для Боба этап восхождения по официальным степеням научной стези. Я даже неприятно удивился бы и был бы крайне огорчен, если бы это закономерное событие в то время не состоялось.
Листок был не только извещением. Мне подумалось, что в этом приглашении между строчками читается обращение: «Джеки! Научная работа – это не недоступный журавль в небе и не озарения супергениальных небожителей. Как видишь, судьба в науке – это целенаправленная, продуктивная толкотня подготовленных, амбициозных мужиков и вполне доступная для всех нас повседневщина».
Это приглашение на заседание Учёного совета стимулировало меня во всех моих усилиях добиться права поступать в адъюнктуру Дзержинки, поскольку другого пути в науку у кондового служаки без московской прописки не было (опять вспомнился Куприн: «Поединок» и «Куст сирени»). Прошли десятки лет…
…Я заехал к Бобу в его офис на Ордынке: «по делу». С доктором технических наук, профессором, членом двух академий, начальником отдела Международного авиационного комитета (и, добавлю, телевизионным экспертом и комментатором причин и обстоятельств авиационных катастроф) мы мигом разрешили мнимую проблему (не проблема, а так себе – закорючина). За несколько десятков минут, пока я сидел в его кабинете, наш разговор несколько раз прерывали его коллеги и просили подписать уже согласованные «карты захода на посадочную полосу», «заключения о техническом состоянии» и другие ответственные «бумаги»: повседневная текучка «начальника». В завершение нашей кратковременной беседы Боб из сейфа достал бутылёк, и мы пригубили по маленькой: у нас обоих ещё был впереди длинный рабочий день. Выйдя к метро, я подумал: не довелось мне по жизни иметь дело с «таким Овчаровым» – ответственным, официальным и очень-очень компетентным.
Но ведь и судьбу свою он выстроил исключительно не по накатанным канонам. Сначала, после военного инженерства, стал кандидатом технических наук.
А потом, а потом выучился на лётчика-испытателя! Когда мы с Виталь Палычем ехали на его дачу, то несколько раз возвращались к этой теме: как же Боб дошёл до жизни такой? Ведь Виталь Палыч сам был лётчиком, и в его представлении как-то не укладывалось: башковитый увалень Боб («Винни-Пух в офицерской форме») – и в кресле пилота. Я не стал аргументами разубеждать Виталь Палыча.
Но я ему сказал: еще в академии Боб стал суперэрудитом в динамике управляемого полёта, а, уж если ему что-то западёт в голову, то он расшибётся, но своего добьётся. Сам себе (Несомненно! Именно, в первую очередь, себе), а также и всем другим Боб доказал, что его организм – хороший трёхкоородинатный акселерометр с прекрасным вестибулярным аппаратом, надёжным счётно-решающим устройством в голове и динамически адекватными исполнительными органами: руками и ногами. Но мало того. Боб за время воинской службы не только оформил кучу запланированных отчетов, не только налетал заданное количество испытательных часов, не только расстрелял установленные мишени и проанализировал поведение приборов и агрегатов.
Ко всему этому он стал писать для души. Не рифмованные строчки по некоторому поводу – это он и в академии сочинял. Он стал писать рассказы и повести. О том, какова военная, лётная, «другая» (и личная, тоже) жизнь в гарнизонах, на аэродромах, на испытательных полигонах… И, в конце концов, издал книгу и стал «настоящим автором». Не считаю возможным рецензировать или комментировать его книгу. Для меня – это почти то же самое, что говорить о себе. А почти всё, что можно было наговорить друг о друге и не только словами, мы, наверно, уже высказали.
Кроме юбилейных курсовых встреч в последние годы нам пришлось и, к большому сожалению, неоднократно принимать участие в ритуалах последнего прощания с нашими однокурсниками. И не только с теми, кто был старше нас, что всегда было печально: до гробовой доски они были рядом с нами. Но ещё горше было то, что навсегда уходили от нас наши одногодки: уж им-то, как нам казалось, суждено было жить и жить. Но эти печальные проводы одновременно были выражением наших дружеских уз, нашего единства. А родственники тех, кто ушёл, иногда даже не представляли, что кто-то из нас знал о своем друге больше и глубже, чем они, жившие рядом, бок о бок. Иногда мне приходила в голову навязчивая мысль: не нужно стесняться.
Наоборот, ещё при жизни нужно своим друзьям, своим верным спутникам по жизни сказать слова благодарности и признательности просто за то, что они были такими, какие они есть. Сказать о друзьях, не пожалев никаких эпитетов, потому, что они достойны этого. Сказать и написать не потом, не после, а тогда, когда они сами о себе могут выслушать или прочитать.
За прошедшие годы мы не раз были друг у друга на днях рождения. Естественно, что наши жёны с пристрастием следили за тем, что и какими словами скажут об «их имениннике»: все они знали о его друзьях не понаслышке. Не могу ручаться за спутниц остальных моих друзей, но моя жена Надежда с некоторой ревностью относится к моим однокурсникам, а знает она многих. Иногда она на меня заземляет спонтанные разряды внутреннего напряжения, накопившегося за длинный день в школе, и внезапные всполохи в атмосфере разнозарядной облачности на интервале времени, ужатом между вытворением на кухне и стиральной машиной: «О тебе друзья говорят так, как будто вы знаете друг о друге только хорошее и видите только это – хорошее».
Почему-то мне кажется, что «женская логика» не может абстрагироваться от неизбежной и засасывающей мелочёвки бытовых неурядиц, недоделок. И волей-неволей, за долгое время совместной жизни критерием оценки своего суженого иногда становится простой и набивший оскомину тест: «Гвоздь в стенку вбить не может (или не хочет)». Уверен, что такого рода работу (а также многую другую, подобную «вбиванию гвоздя в бетонную стенку») великолепно могут выполнять все, о ком я говорю.
Но вот сделать себя «личностью», добиться своим трудом (конечно, при наличии таланта, способностей) признания, сделать военную, научную, педагогическую карьеру… В полной мере оценить то, что преодолено, завоевано и достигнуто твоими друзьями, могут только те, кто и сам нечто подобное имел в жизни.
Только они могут понять все трудности восхождения, только они представляют всё коварство подковёрной борьбы, подводных рифов, предустановленных мнений, групповых интересов и ещё много чего «сопутствующего».
Их восторженная оценка – истинна. Наш курс достоин мифологического панегирика не только о годах нашей учёбы (а для нас это были годы замечательной дружбы, поддержки и взаимного воспитания), но и о духовной близости и прекрасных встречах немало добившихся однокурсников, и, по большому счёту, оставшихся верными и надежными друзьями согласно устоям и традициям академических лет, а также в силу взаимного эмоционального единения .
Я намеренно почти умолчал об Алексее Купцове. Мы с ним играли в одной команде в баскетбол, жили в одной комнате, когда служили в одном полку в Укурее и Сучане, а потом много раз встречались по разного рода оказиям и не только в Москве. Мне трудно писать о нём, потому что он в той или иной степени знает почти всех моих знакомых: дальневосточных и московских, по баскетболу и по теннису, по автомобильным и застольным мероприятиям, а также прочее… Дополнительно к тому, что я, преодолев ограничения самоцензуры, «наговорил на него самого», мне было приятно рассказать и о наших контактах с нашим другом Левой Марковым.
Но кроме всего этого, Алекс, вольно или невольно для нас обоих, явился для меня этаким «чёрным ходом» в достаточно замкнутую группу трёх выдающихся однокурсников. Он всегда был близким другом всех трёх будущих профессоров и академиков и по приезде в Москву был естественным и неотъемлемым четвёртым углом в этом интимно жестком квартете. Я, возможно, нагородил в простой окружности что-нибудь лишнее, но у меня сложилось стойкое убеждение, что с одного угла (с парадного входа) я прошествовал в круг их общения вместе с Бобом, а с другого угла («с заднего крильца») я проникал по протекции Алексея.
Я очень благодарен всем четверым вместе за то, что они были и есть в моей жизни. Каждый из них в отдельности оказал на меня и мою судьбу своеобразное воздействие и в меру этого воздействия в какой-то степени сделал меня таким, каким я стал. И мне бы хотелось полагать, что и я им всем был не совсем бесполезен.
В первом отделении были (и, конечно, есть и сейчас) и другие выдающиеся личности. Назову, например, всем известную троицу: В. Кажарский, А. Батенко и В. Скабицкий. У них был свой «подвальный» угол зрения практически на все животрепещущие вопросы. Но особым, утрированным критикантством выделялись Толя Батенко и Володя Скабицкий. В той или иной степени эти два ниспровергателя ставили под сомнение пригодность и обоснование практически всех мало-мальски значащих жизненных устоев: педагогических, общественно-политических, социально-психологических, военных… У Толи Батенко в его высказываниях всегда была большая примесь сарказма, менторская нотка: «Да не впарите вы мне вашу белиберду, я и сам с усам».
А вот Кега внутренне страдал от, мягко говоря, несоответствия, неадекватности в «воинском воспитании», социально-политической пропаганде. Он испытывал мучения сам и других пытал трагически‑риторическими вопросами.
Уже тогда у него проявлялись признаки необратимого внутреннего раздрая, вылившегося в глубокий раскол со всеми и своеобразное схимничество.
Сейчас мне понятны чувства бессилия, которые подчас овладевали нашим воспитателем Б. Долгиным. Но, наверно, и он понимал, что у всех мер воздействия есть свой предел, а вот порог действенного влияния на самодостаточных интеллектов, попавших в его подчинение, значительно выше этого предела.